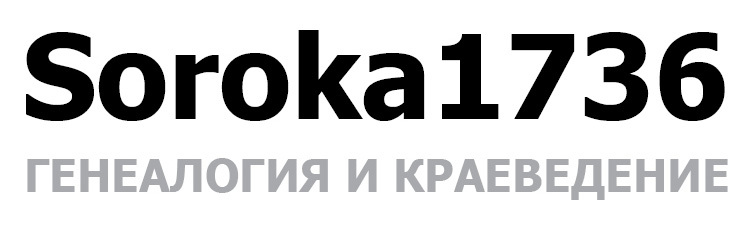Андрей Митин, Надежда Федотова
ЗУБЧАНИНОВКА:
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ
Год назад к авторам этого сайта попала в руки подшивка газет «Поселок» и «Поселочная жизнь» за 1910-1913 года, издававшаяся «Обществом устройства и благоустройства» пригородного поселка Зубчаниновка под Самарой.
Для читателей, не знакомых с темой, стоит пояснить, что в начале 1908 года группа рабочих и служащих Самаро-Златоустовской железной дороги решила «вследствие сильного вздорожания квартир и вообще жизненных продуктов… купить на артельных началах землю для постройки домов и образования поселка или колонии…».
Желающих участвовать в кооперативе железнодорожников оказалось около 700 человек, а «на заключающихся в общем количестве земли 500 десятинах, удобных под Поселок, можно поселить около 1700 жителей», поэтому было решено разрешить участие в нем и другим жителям Самары.
Желающих участвовать в кооперативе железнодорожников оказалось около 700 человек, а «на заключающихся в общем количестве земли 500 десятинах, удобных под Поселок, можно поселить около 1700 жителей», поэтому было решено разрешить участие в нем и другим жителям Самары.
НАЧАЛО
24 января 1908 года начальнику Самаро-Златоустовской железной дороги, инженеру А. Г. Каянус, было подано прошение следующего содержания:
«Вследствие сильного вздорожания квартир и вообще жизненных продуктов, между служащими службы сборов и другими службами управления дороги возникла мысль, по примеру Южных дорог, купить на артельных началах землю для постройки домов и образования поселка или колонии, как это устроено около Харькова.
На основании вышеизложенного, мы имеем честь обратиться к вашему превосходительству с покорнейшею просьбой: разрешить путем подписного листа, пущенного по службам и отделам, выяснить лиц, желающих участвовать в покупке земли и, по выяснении сего, собраться для обсуждения взаимных условий, а равно и вопросов, относящихся к покупке земли».
Под прошением имеются подписи: С. Полежаев, А. Кузнецов, А. Татаринов, Ар. Карелин, К. Парашин, А. Набоков, А.Д. Биткин, П.Е. Кузнецов, П.Д. Биткин 2-й, Г.В. Епанешников, Ив. Лавренко, И. В. Столяров, Н. Ростов, А. Емельянов и А. Розов.
Нужно заметить, что этому прошению предшествовало несколько совещаний, начавшихся с осени 1907 года среди служащих службы сборов под руководством покойного Дмитрия Андреевича Ванчакова, бывшего в то время начальником службы сборов.
Август Германович Каянус, несмотря на существующие правила, воспрещающие железнодорожным служащим всякие собрания и подписки, разрешил – благодаря просьбе Д.А. Ванчакова – произвести по службам и отделам подписку, давшую в течении двух дней более четырехсот подписей.
Первое собрание железнодорожников, разрешенное начальником дороги – с одной стороны, и полицеймейстером – с другой, состоялось 16 марта 1908 г., в помещении Общества приказчиков под председательством А.Д. Биткина.
К сожалению, протокол этого собрания, имеющий историческое значение для нашего поселка, не сохранился. Но не изгладилось еще впечатление от этого собрания, на котором, между прочим, были оглашены приветственные отзывы печати о возникновении поселка «Южный» под Харьковом. На этом собрании единогласно было решено осмотреть земли вокруг Самары и выяснить условия продажи их.
В скором времени, а именно – в начале апреля, состоялось второе собрание, на которое явились и делегаты от учреждений, не принадлежащих к железнодорожному ведомству, но служащие коих пользуются бесплатным проездом по жел. дорогам, как напр.: от железнодорожного контроля, жандармской ж.д. полиции и восточного порайонного комитета.
На этом собрании решено было выписать устав поселка «Южный» и для рассмотрения его избрать комиссию. В эту комиссию было назначено по два лица от каждой службы или отдела, по заявлению последних. Делегаты от восточного порайонного комитета, бывшие на этом собрании, просили включить в состав комиссии представителями от порайонного комитета г.г. Резвова и Зубчанинова.
После этого в скором времени состоялось заседание этой комиссии, председателем коей был избран Е.А. Зубчанинов. Комиссией был принят почти целиком устав поселка «Южный», который был отпечатан вместе с докладом г. Зубчанинова и пущен в продажу по 10 коп. за экземпляр.
ИКСЫ И ИГРЕКИ
Для рассмотрения проекта устава, на котором остановился я в предыдущей статье, и для заслушания доклада комиссии по изысканию земли, подходящей для Поселка, было назначено общее собрание 2 июня 1908 года в летнем помещении Канцелярского клуба.
На афишах, оповещающих об этом собрании, не было указано, что общество учреждается железнодорожниками.
Поэтому, несмотря на сильную жару, на собрание явилось более двухсот человек из служащих разных самарских учреждений.
Появление на собрании значительного числа лиц, не служащих на железной дороге, вызвало недоумение со стороны железнодорожников, полагавших, что общество должно состоять исключительно из них как из инициаторов этого дела; и, кроме того, чисто железнодорожное общество должно было рассчитывать на некоторые льготы и материальную помощь от железной дороги.
Как только началось собрание, открытое при возбужденном настроении собравшихся г. Зубчаниновым, предложившим избрать председателя, сразу обнаружились два крайних течения. Часть собравшихся кричала «просим Вас», часть предлагала в председатели А.Д. Биткина.
Пришлось прибегнуть к закрытой баллотировке записками, большинство которых было подано за г. Зубчанинова.
После этого железнодорожники, усмотрев в этом свое поражение, заявили протест на присутствие в собрании нежелезнодорожников, как не состоящих учредителями общества, требуя удаления их из зала заседания.
Начались препирательства между не- и железнодорожниками, порою доходившие до перебранки.
– Значит... вы, железнодорожники, иксы, а мы игреки!
– Организуйте свое общество, никто не мешает и вам сделаться иксами.
Распря была прекращена баллотировкой, заставившей нежелезнодорожников ретироваться. Но игрекам было оказано снисхождение тем, что им разрешили остаться на хорах, однако, без права голоса.
Комиссией по изысканию земли, удобной для Поселка, было доложено, что земля князя Щербатова близь станции Липяги, на которую первоначально было обращено внимание, признана неудобной для Поселка как по цене, так и по невозможности сообщения по грунтовым дорогам в половодье.
Затем внимание комиссии было остановлено на земле Б.Е. Эдельсона, от которого получены были два письма.
В первом своем письме, присланном 9 марта 1908 года на имя А. Д. Биткина, г. Эдельсон писал, что он согласен продать товариществу железнодорожных служащих до 220 десятин пахотной земли казенной меры, по цене 300 руб. за десятину.
Письмо это заканчивается следующим постскриптумом: «Сим заявляю, что я действительно говорил уполномоченным т-ва железнодорожных служащих о том, что небольшой участок земли за железной дорогой, около 100 десятин, я согласен продать по 200 р. за десятину».
Во втором письме к г. Зубчанинову, от 6 мая 1908 года уже сообщалось: «...при покупке у меня т-вом железнодорожников всего участка земли (за исключением усадьбы и прилегающей к ней земли около 100 десятин) цена за каждую десятину назначается 175 руб.».
Так как комиссия по изысканию земли, образованная из представителей всех служб и отделов железнодорожного управления, этим закончила свою миссию, то предложено было собранию произвести из своей среды выборы особой комиссии, на которую возложить дальнейшее ведение дела уже по устройству самого Поселка и окончательную переработку устава.
На это последовали возражения, что лучше сначала рассмотреть устав, а потом уже выбирать комиссию.
– Общество без устава, что человек без паспорта...
Таким образом, собрание, оставив в силе прежнюю комиссию из представителей служб и отделов, приступило к рассмотрению устава по параграфам.
ПЕРЕХОДНОЕ ЗВЕНО
Итак, к рассмотрению проекта устава Общим Собранием было приступлено 2 июня 1908 года.
Внимание Собрания, стремившегося к тому, чтобы как можно поскорее покончить с уставом, останавливалось лишь на некоторых параграфах, имевших более существенное значение. Все остальные второстепенные параграфы, мелькавшие перед Собранием, принимались без всяких прений.
При разборе параграфа первого, трактующего об учредителях, вновь возник вопрос об изменении редакции этого параграфа в том смысле, что учредителями общества должны состоять исключительно железнодорожные служащие.
Но председатель Собрания (г. Зубчанинов) предупредил, что если общество организуется только из железнодорожников, то может выйти неловкое положение. За эдельсоновскую землю, которая намечена для Поселка, и в которой заключается около 1500 десятин, пришлось бы заплатить 262000 рублей. Этих денег железнодорожники не будут в состоянии собрать, если их будет только то число, которое дотоле записалось, т.е. около 700 человек, тогда как на заключающихся в общем количестве земли 500 десятинах, удобных под Поселок, можно поселить около 1700 жителей.
После выражения Собранием пожелания, чтобы в уставе был проведен принцип кооперации, параграф первый был дополнен следующей редакцией: «... в состав учредителей могут входить все лица без различия... Исключительно же железнодорожники, если земли будет мало».
— И овцы целы, и волки сыты, – послышался голос с хор.
Одним из участников Собрания было обращено внимание на то, что в проекте устава как в заголовке, так и во всех соответствующих параграфах его напечатано жирным шрифтом название Поселка – «Новый», между тем вопрос этот на обсуждение собрания не ставился.
На предложение некоторых членов сначала утвердить название, председатель Собрания просил обсуждение названия Поселка отложить до конца заседания.
Но вопрос этот так и остался не поставленным на обсуждение Собрания, и впоследствии от названия Поселка «Новый» остались лишь одни кавычки, сохранившиеся до сих пор и в ныне действующем уставе.
Параграф девятый проекта, предусматривавший звание почетных членов, был целиком исключен на том соображении, что раз принят принцип кооперации, то все члены должны быть равноправны, и никаких почетных членов не должно быть.
Но особенное внимание было оказано так названному «пьяному» параграфу, 15. Дело в том, что ныне существующая редакция § 15 в проекте была дополнена: «... а за появление на улице или в общественном месте в нетрезвом виде виновный подвергается штрафу в пользу общества в размере 5 рублей».
Долго думали над решением вопроса о принятии целиком этого параграфа, – и идея хорошая, и рискованно, – и, наконец, решили последнюю часть исключить.
Несмотря на старание поскорее свалить с плеч устав, участники собрания, истомленные, решили отложить рассмотрение устава до следующего воскресенья, 8-го дня 1908 года, успев утвердить на этот раз 18 параграфов.
На следующем, менее многолюдном собрании, состоявшемся в том же летнем помещении канцелярского клуба, рассмотрение устава, наконец, было окончено и все участники собрания вздохнули свободно.
Представление этого устава на утверждение подлежащих властей собранием было поручено г.г. Зубчанинову, Полежаеву, Резвову, Быкову и Поплавскому.
Первоначально проект устава был представлен 11 июня 1908 года начальнику Самаро-Златоустовской железной дороги применительно к циркуляру управления железных дорог, предписывающему оказывать служащим всякое содействие в деле обзаведения собственными квартирами.
Но начальник дороги, инженер А. Г. Каянус, на дело посмотрел уже иначе. Он возвратил все дело обратно, написав следующую резолюцию:
«По циркуляру управления жел. дорог от 2 ноября 1907 г. за № 27853/136 представляется возможным прийти на помощь служащим и рабочим (жел. дор.) в деле обзаведения собственным жильем. Между тем проектируемое общество предполагает распространить свою деятельность вне круга сказанного личного состава ж. д., выходя таким образом из указанных Мин-ом П. С. рамок; поэтому я лишен возможности представить этот проект на утверждение М-ва П. С. и нахожу, что он должен быть направлен учреждениями общества через губернатора на утверждение М.В.Д.».
«По существу возражений не имею. 17 июня. Каянус».
После этого устав был представлен через губернатора, в порядке закона 4 марта 1906 года, на утверждение самарского губернского по делам об обществах присутствия, которым устав и зарегистрирован 20 марта 1908 года.
ЗАТИШЬЕ ПЕРЕД БУРЕЙ
– Поздравляю вас с утвержденным уставом!
Приветствовал поселочников г. Зубчанинов, открывший co6paние, состоявшееся впервые после утверждения устава 26-го ноября 1908 года в помещении О-ва приказчиков, при наличности около 200 участников.
Сообщение об утверждении устава ободряюще подействовало на поселочников, впавших в безнадежность вследствие застоя всякого движения за время мытарства устава, с 8 июня по 26 ноября 1908 года.
В период этого времени существовавшая из представителей железнодорожных служб временная комиссия почти распалась. Одни из членов вышли из этой комиссии, другие не принимали в ней никакого участия, а третьи, взяв обратно свои взносы, вышли даже из общества.
Комиссией по сводке сведений о лицах, желающих примкнуть к Поселку, было доложено, что желающих вступить в члены общества оказалось только 275 человек, из которых 27 обещают уплатить за землю лишь после устройства Поселка.
Мнения остальных 248 членов разделились; часть обещала внести единовременно 11945 рублей, а другая часть предлагала вносить ежемесячно по 1131 рублю.
В виду таких разноречивых мнений и малочисленности записавшихся членов, не дававших возможности приобрести эдельсоновскую землю, собранием было решено открыть новую запись участников и продолжить ее до 1 января 1909 года.
Но чтобы не было в числе записавшихся дезертиров, как это наблюдалось ранее, решено было обусловить запись участников трехрублевым взносом, для чего в Азовско-Донском коммерческом банке был открыть счет, куда должны были участники Поселка вносить свои трехрублевки.
Таким образом, лица, как дотоле записавшиеся, так и новые члены Поселка, должны были внести до 1 января 1909 года по 3 рубля для того, чтобы каждый считался членом общества и имел право голоса на общем собрании, которое было предназначено на 11 января 1909 года и на котором предположено было избрать комитет, предусмотренный уставом.
Но так как существовавшая комиссия из представителей железнодорожных служб почти перестала функционировать, то на этом собрании был избран временный комитет из 15 лиц, на который было возложено дальнейшее ведение дела впредь до избрания действительного комитета, когда число участников определится.
Благодаря широкой публикации, приглашавшей примкнуть к Поселку всех желающих, до 1 января 1909 года записалось 1018 лиц, внесших в Азовско-Донской банк каждый 3 рубля и более.
При достижении этого количества членов и было назначено 11 января 1909 года, в Пушкинском Народном Доме, общее собрание участников, на которое явилось 602 лица.
Здесь было оглашено письмо Б.Е. Эдельсона, в котором он писал следующее:
«Имею честь сообщить вам, что для устройства Поселка вблизи г. Самары я согласен продать 1500 десятин земли по 175 рублей за десятину, с рассрочкой платежа на четыре с половиною года из 6% годовых. При совершении купчей мне должна быть выдана закладная на всю недоплаченную сумму.
С истинным почтением, Б. Эдельсон. г. Самара, 10 января 1909 г.».
На этом собрании было выяснено, что г. Эдельсон предлагал поселочникам всю свою землю, оставляя лишь 120 десятин под хутор. В 1500 десятинах земли, предложенной г. Эдельсоном, заключалось 500 десятин пахотной земли, удобной под Поселок, и 1000 десятин заливных лугов.
Сообщение это вызвало бурные прения, большею частью клонившихся к тому, что эдельсоновская земля, на которой много болот, малярийна и непригодна для Поселка, заливные луга заносятся илом и, вообще, земля не стоить той цены, какую за нее назначил владелец.
Не обошлось и без личностей: в речах ораторов то и дело проскальзывали такие тирады: «Он просто нас прижимает», «знает, где раки зимуют» и т. п.
Между тем собранию было сообщено, что по северную сторону от полотна железной дороги, рядом с участком Эдельсона, имеется участок земли в 1152 десятины, принадлежащий Крестьянскому Банку, у которого тоже можно приобрести под Поселок. Цена за эту землю раньше была назначена 125 руб. за десятину, но теперь банк поднял до 175 руб. за десятину.
Собрание решило купить эту землю у Крестьянского Банка вместе с участком Эдельсона, расположенными по северную сторону от полотна железной дороги, рядом с землей Крестьянского Банка.
Отложив выборы постоянного Комитета, собрание поручило временному Комитету вести переговоры по этому делу как с Крестьянскими Банком, так и с г. Эдельсоном, выяснив с последним возможность понижения цены, назначенной им за землю. Одновременно с этим, собранием было поручено Комитету продолжить запись новых членов и результат вместе с вышеупомянутыми сведениями доложить общему собранию, которое предположено было созвать 1-го февраля 1909 года.
Утром 28 января 1909 года экстренно было отправлено г. Эдельсону следующее письмо от г. Зубчанинова:
«Милостивый государь, Борис Евгеньевич!
Как Вами известно, вероятно, из газетного отчета о заседании 11 января общества устройства Поселка, на этом заседании против приобретения Вашей земли были сделаны следующие заявления:
1) Цена земли высока, тем более, что из всего участка около двух третей земли под Поселок оказывается негодной. Она заливается, и до просушки не может представлять собой даже выгона.
Высока цена также и потому, что Крестьянский Банк за сплошь удобную под Поселок землю назначил по 160 рублей за десятину, но, вероятно, эта цена будет понижена до 110-125 руб., как обещал губернатор;
2) на заливной земле есть неудобная совсем, есть песок, есть солончак и кустарник;
3) основывать расчет приобретения этой земли на доходах с покоса и на пастьбе скота по отаве не следует».
Далее, в письме просилось сообщить крайнюю цену всей земли при условии уплаты стоимости ее на 4 1/2 года из 6% годовых, а также цену отдельного участка за полотном жел. дороги, для сообщения доклада этих сведений общему собранию.
А на другой день, 29 января 1909 года, был получен от г. Эдельсона следующий ответ:
«Милостивый государь, Евгений Андреевич!
Должен сообщить Вам, что на последнем семейном совете мы приняли окончательное решете: ни одной десятины земли ни по какой цене, никому и нигде не продавать.
«В случай покупки обществом Поселка удельного участка, я могу для сообщения с полотном железной дороги отвести обществу потребную полосу земли на правах аренды.
«В заключение приходится подтвердить, что высказанные на собрании предположения о лихорадочности нашей местности вполне правильны, и что я, отказывая в продаже, тем самым как бы освобождаю себя от тех нареканий и проклятий, которые несомненно посылались бы в будущем на мою голову от членов Поселка.
«С истинным уважением…»
Ответ этот вместе с другими сведениями, добытыми из Крестьянского Банка, и списком записавшихся участников, достигшим к тому времени до 2105 лиц, был доложен следующему общему собранию, состоявшемуся в 12 час. дня 1-го февраля 1909 года в том же Пушкинском Народном Доме.
Г. Б–новь.
24 января 1908 года начальнику Самаро-Златоустовской железной дороги, инженеру А. Г. Каянус, было подано прошение следующего содержания:
«Вследствие сильного вздорожания квартир и вообще жизненных продуктов, между служащими службы сборов и другими службами управления дороги возникла мысль, по примеру Южных дорог, купить на артельных началах землю для постройки домов и образования поселка или колонии, как это устроено около Харькова.
На основании вышеизложенного, мы имеем честь обратиться к вашему превосходительству с покорнейшею просьбой: разрешить путем подписного листа, пущенного по службам и отделам, выяснить лиц, желающих участвовать в покупке земли и, по выяснении сего, собраться для обсуждения взаимных условий, а равно и вопросов, относящихся к покупке земли».
Под прошением имеются подписи: С. Полежаев, А. Кузнецов, А. Татаринов, Ар. Карелин, К. Парашин, А. Набоков, А.Д. Биткин, П.Е. Кузнецов, П.Д. Биткин 2-й, Г.В. Епанешников, Ив. Лавренко, И. В. Столяров, Н. Ростов, А. Емельянов и А. Розов.
Нужно заметить, что этому прошению предшествовало несколько совещаний, начавшихся с осени 1907 года среди служащих службы сборов под руководством покойного Дмитрия Андреевича Ванчакова, бывшего в то время начальником службы сборов.
Август Германович Каянус, несмотря на существующие правила, воспрещающие железнодорожным служащим всякие собрания и подписки, разрешил – благодаря просьбе Д.А. Ванчакова – произвести по службам и отделам подписку, давшую в течении двух дней более четырехсот подписей.
Первое собрание железнодорожников, разрешенное начальником дороги – с одной стороны, и полицеймейстером – с другой, состоялось 16 марта 1908 г., в помещении Общества приказчиков под председательством А.Д. Биткина.
К сожалению, протокол этого собрания, имеющий историческое значение для нашего поселка, не сохранился. Но не изгладилось еще впечатление от этого собрания, на котором, между прочим, были оглашены приветственные отзывы печати о возникновении поселка «Южный» под Харьковом. На этом собрании единогласно было решено осмотреть земли вокруг Самары и выяснить условия продажи их.
В скором времени, а именно – в начале апреля, состоялось второе собрание, на которое явились и делегаты от учреждений, не принадлежащих к железнодорожному ведомству, но служащие коих пользуются бесплатным проездом по жел. дорогам, как напр.: от железнодорожного контроля, жандармской ж.д. полиции и восточного порайонного комитета.
На этом собрании решено было выписать устав поселка «Южный» и для рассмотрения его избрать комиссию. В эту комиссию было назначено по два лица от каждой службы или отдела, по заявлению последних. Делегаты от восточного порайонного комитета, бывшие на этом собрании, просили включить в состав комиссии представителями от порайонного комитета г.г. Резвова и Зубчанинова.
После этого в скором времени состоялось заседание этой комиссии, председателем коей был избран Е.А. Зубчанинов. Комиссией был принят почти целиком устав поселка «Южный», который был отпечатан вместе с докладом г. Зубчанинова и пущен в продажу по 10 коп. за экземпляр.
ИКСЫ И ИГРЕКИ
Для рассмотрения проекта устава, на котором остановился я в предыдущей статье, и для заслушания доклада комиссии по изысканию земли, подходящей для Поселка, было назначено общее собрание 2 июня 1908 года в летнем помещении Канцелярского клуба.
На афишах, оповещающих об этом собрании, не было указано, что общество учреждается железнодорожниками.
Поэтому, несмотря на сильную жару, на собрание явилось более двухсот человек из служащих разных самарских учреждений.
Появление на собрании значительного числа лиц, не служащих на железной дороге, вызвало недоумение со стороны железнодорожников, полагавших, что общество должно состоять исключительно из них как из инициаторов этого дела; и, кроме того, чисто железнодорожное общество должно было рассчитывать на некоторые льготы и материальную помощь от железной дороги.
Как только началось собрание, открытое при возбужденном настроении собравшихся г. Зубчаниновым, предложившим избрать председателя, сразу обнаружились два крайних течения. Часть собравшихся кричала «просим Вас», часть предлагала в председатели А.Д. Биткина.
Пришлось прибегнуть к закрытой баллотировке записками, большинство которых было подано за г. Зубчанинова.
После этого железнодорожники, усмотрев в этом свое поражение, заявили протест на присутствие в собрании нежелезнодорожников, как не состоящих учредителями общества, требуя удаления их из зала заседания.
Начались препирательства между не- и железнодорожниками, порою доходившие до перебранки.
– Значит... вы, железнодорожники, иксы, а мы игреки!
– Организуйте свое общество, никто не мешает и вам сделаться иксами.
Распря была прекращена баллотировкой, заставившей нежелезнодорожников ретироваться. Но игрекам было оказано снисхождение тем, что им разрешили остаться на хорах, однако, без права голоса.
Комиссией по изысканию земли, удобной для Поселка, было доложено, что земля князя Щербатова близь станции Липяги, на которую первоначально было обращено внимание, признана неудобной для Поселка как по цене, так и по невозможности сообщения по грунтовым дорогам в половодье.
Затем внимание комиссии было остановлено на земле Б.Е. Эдельсона, от которого получены были два письма.
В первом своем письме, присланном 9 марта 1908 года на имя А. Д. Биткина, г. Эдельсон писал, что он согласен продать товариществу железнодорожных служащих до 220 десятин пахотной земли казенной меры, по цене 300 руб. за десятину.
Письмо это заканчивается следующим постскриптумом: «Сим заявляю, что я действительно говорил уполномоченным т-ва железнодорожных служащих о том, что небольшой участок земли за железной дорогой, около 100 десятин, я согласен продать по 200 р. за десятину».
Во втором письме к г. Зубчанинову, от 6 мая 1908 года уже сообщалось: «...при покупке у меня т-вом железнодорожников всего участка земли (за исключением усадьбы и прилегающей к ней земли около 100 десятин) цена за каждую десятину назначается 175 руб.».
Так как комиссия по изысканию земли, образованная из представителей всех служб и отделов железнодорожного управления, этим закончила свою миссию, то предложено было собранию произвести из своей среды выборы особой комиссии, на которую возложить дальнейшее ведение дела уже по устройству самого Поселка и окончательную переработку устава.
На это последовали возражения, что лучше сначала рассмотреть устав, а потом уже выбирать комиссию.
– Общество без устава, что человек без паспорта...
Таким образом, собрание, оставив в силе прежнюю комиссию из представителей служб и отделов, приступило к рассмотрению устава по параграфам.
ПЕРЕХОДНОЕ ЗВЕНО
Итак, к рассмотрению проекта устава Общим Собранием было приступлено 2 июня 1908 года.
Внимание Собрания, стремившегося к тому, чтобы как можно поскорее покончить с уставом, останавливалось лишь на некоторых параграфах, имевших более существенное значение. Все остальные второстепенные параграфы, мелькавшие перед Собранием, принимались без всяких прений.
При разборе параграфа первого, трактующего об учредителях, вновь возник вопрос об изменении редакции этого параграфа в том смысле, что учредителями общества должны состоять исключительно железнодорожные служащие.
Но председатель Собрания (г. Зубчанинов) предупредил, что если общество организуется только из железнодорожников, то может выйти неловкое положение. За эдельсоновскую землю, которая намечена для Поселка, и в которой заключается около 1500 десятин, пришлось бы заплатить 262000 рублей. Этих денег железнодорожники не будут в состоянии собрать, если их будет только то число, которое дотоле записалось, т.е. около 700 человек, тогда как на заключающихся в общем количестве земли 500 десятинах, удобных под Поселок, можно поселить около 1700 жителей.
После выражения Собранием пожелания, чтобы в уставе был проведен принцип кооперации, параграф первый был дополнен следующей редакцией: «... в состав учредителей могут входить все лица без различия... Исключительно же железнодорожники, если земли будет мало».
— И овцы целы, и волки сыты, – послышался голос с хор.
Одним из участников Собрания было обращено внимание на то, что в проекте устава как в заголовке, так и во всех соответствующих параграфах его напечатано жирным шрифтом название Поселка – «Новый», между тем вопрос этот на обсуждение собрания не ставился.
На предложение некоторых членов сначала утвердить название, председатель Собрания просил обсуждение названия Поселка отложить до конца заседания.
Но вопрос этот так и остался не поставленным на обсуждение Собрания, и впоследствии от названия Поселка «Новый» остались лишь одни кавычки, сохранившиеся до сих пор и в ныне действующем уставе.
Параграф девятый проекта, предусматривавший звание почетных членов, был целиком исключен на том соображении, что раз принят принцип кооперации, то все члены должны быть равноправны, и никаких почетных членов не должно быть.
Но особенное внимание было оказано так названному «пьяному» параграфу, 15. Дело в том, что ныне существующая редакция § 15 в проекте была дополнена: «... а за появление на улице или в общественном месте в нетрезвом виде виновный подвергается штрафу в пользу общества в размере 5 рублей».
Долго думали над решением вопроса о принятии целиком этого параграфа, – и идея хорошая, и рискованно, – и, наконец, решили последнюю часть исключить.
Несмотря на старание поскорее свалить с плеч устав, участники собрания, истомленные, решили отложить рассмотрение устава до следующего воскресенья, 8-го дня 1908 года, успев утвердить на этот раз 18 параграфов.
На следующем, менее многолюдном собрании, состоявшемся в том же летнем помещении канцелярского клуба, рассмотрение устава, наконец, было окончено и все участники собрания вздохнули свободно.
Представление этого устава на утверждение подлежащих властей собранием было поручено г.г. Зубчанинову, Полежаеву, Резвову, Быкову и Поплавскому.
Первоначально проект устава был представлен 11 июня 1908 года начальнику Самаро-Златоустовской железной дороги применительно к циркуляру управления железных дорог, предписывающему оказывать служащим всякое содействие в деле обзаведения собственными квартирами.
Но начальник дороги, инженер А. Г. Каянус, на дело посмотрел уже иначе. Он возвратил все дело обратно, написав следующую резолюцию:
«По циркуляру управления жел. дорог от 2 ноября 1907 г. за № 27853/136 представляется возможным прийти на помощь служащим и рабочим (жел. дор.) в деле обзаведения собственным жильем. Между тем проектируемое общество предполагает распространить свою деятельность вне круга сказанного личного состава ж. д., выходя таким образом из указанных Мин-ом П. С. рамок; поэтому я лишен возможности представить этот проект на утверждение М-ва П. С. и нахожу, что он должен быть направлен учреждениями общества через губернатора на утверждение М.В.Д.».
«По существу возражений не имею. 17 июня. Каянус».
После этого устав был представлен через губернатора, в порядке закона 4 марта 1906 года, на утверждение самарского губернского по делам об обществах присутствия, которым устав и зарегистрирован 20 марта 1908 года.
ЗАТИШЬЕ ПЕРЕД БУРЕЙ
– Поздравляю вас с утвержденным уставом!
Приветствовал поселочников г. Зубчанинов, открывший co6paние, состоявшееся впервые после утверждения устава 26-го ноября 1908 года в помещении О-ва приказчиков, при наличности около 200 участников.
Сообщение об утверждении устава ободряюще подействовало на поселочников, впавших в безнадежность вследствие застоя всякого движения за время мытарства устава, с 8 июня по 26 ноября 1908 года.
В период этого времени существовавшая из представителей железнодорожных служб временная комиссия почти распалась. Одни из членов вышли из этой комиссии, другие не принимали в ней никакого участия, а третьи, взяв обратно свои взносы, вышли даже из общества.
Комиссией по сводке сведений о лицах, желающих примкнуть к Поселку, было доложено, что желающих вступить в члены общества оказалось только 275 человек, из которых 27 обещают уплатить за землю лишь после устройства Поселка.
Мнения остальных 248 членов разделились; часть обещала внести единовременно 11945 рублей, а другая часть предлагала вносить ежемесячно по 1131 рублю.
В виду таких разноречивых мнений и малочисленности записавшихся членов, не дававших возможности приобрести эдельсоновскую землю, собранием было решено открыть новую запись участников и продолжить ее до 1 января 1909 года.
Но чтобы не было в числе записавшихся дезертиров, как это наблюдалось ранее, решено было обусловить запись участников трехрублевым взносом, для чего в Азовско-Донском коммерческом банке был открыть счет, куда должны были участники Поселка вносить свои трехрублевки.
Таким образом, лица, как дотоле записавшиеся, так и новые члены Поселка, должны были внести до 1 января 1909 года по 3 рубля для того, чтобы каждый считался членом общества и имел право голоса на общем собрании, которое было предназначено на 11 января 1909 года и на котором предположено было избрать комитет, предусмотренный уставом.
Но так как существовавшая комиссия из представителей железнодорожных служб почти перестала функционировать, то на этом собрании был избран временный комитет из 15 лиц, на который было возложено дальнейшее ведение дела впредь до избрания действительного комитета, когда число участников определится.
Благодаря широкой публикации, приглашавшей примкнуть к Поселку всех желающих, до 1 января 1909 года записалось 1018 лиц, внесших в Азовско-Донской банк каждый 3 рубля и более.
При достижении этого количества членов и было назначено 11 января 1909 года, в Пушкинском Народном Доме, общее собрание участников, на которое явилось 602 лица.
Здесь было оглашено письмо Б.Е. Эдельсона, в котором он писал следующее:
«Имею честь сообщить вам, что для устройства Поселка вблизи г. Самары я согласен продать 1500 десятин земли по 175 рублей за десятину, с рассрочкой платежа на четыре с половиною года из 6% годовых. При совершении купчей мне должна быть выдана закладная на всю недоплаченную сумму.
С истинным почтением, Б. Эдельсон. г. Самара, 10 января 1909 г.».
На этом собрании было выяснено, что г. Эдельсон предлагал поселочникам всю свою землю, оставляя лишь 120 десятин под хутор. В 1500 десятинах земли, предложенной г. Эдельсоном, заключалось 500 десятин пахотной земли, удобной под Поселок, и 1000 десятин заливных лугов.
Сообщение это вызвало бурные прения, большею частью клонившихся к тому, что эдельсоновская земля, на которой много болот, малярийна и непригодна для Поселка, заливные луга заносятся илом и, вообще, земля не стоить той цены, какую за нее назначил владелец.
Не обошлось и без личностей: в речах ораторов то и дело проскальзывали такие тирады: «Он просто нас прижимает», «знает, где раки зимуют» и т. п.
Между тем собранию было сообщено, что по северную сторону от полотна железной дороги, рядом с участком Эдельсона, имеется участок земли в 1152 десятины, принадлежащий Крестьянскому Банку, у которого тоже можно приобрести под Поселок. Цена за эту землю раньше была назначена 125 руб. за десятину, но теперь банк поднял до 175 руб. за десятину.
Собрание решило купить эту землю у Крестьянского Банка вместе с участком Эдельсона, расположенными по северную сторону от полотна железной дороги, рядом с землей Крестьянского Банка.
Отложив выборы постоянного Комитета, собрание поручило временному Комитету вести переговоры по этому делу как с Крестьянскими Банком, так и с г. Эдельсоном, выяснив с последним возможность понижения цены, назначенной им за землю. Одновременно с этим, собранием было поручено Комитету продолжить запись новых членов и результат вместе с вышеупомянутыми сведениями доложить общему собранию, которое предположено было созвать 1-го февраля 1909 года.
Утром 28 января 1909 года экстренно было отправлено г. Эдельсону следующее письмо от г. Зубчанинова:
«Милостивый государь, Борис Евгеньевич!
Как Вами известно, вероятно, из газетного отчета о заседании 11 января общества устройства Поселка, на этом заседании против приобретения Вашей земли были сделаны следующие заявления:
1) Цена земли высока, тем более, что из всего участка около двух третей земли под Поселок оказывается негодной. Она заливается, и до просушки не может представлять собой даже выгона.
Высока цена также и потому, что Крестьянский Банк за сплошь удобную под Поселок землю назначил по 160 рублей за десятину, но, вероятно, эта цена будет понижена до 110-125 руб., как обещал губернатор;
2) на заливной земле есть неудобная совсем, есть песок, есть солончак и кустарник;
3) основывать расчет приобретения этой земли на доходах с покоса и на пастьбе скота по отаве не следует».
Далее, в письме просилось сообщить крайнюю цену всей земли при условии уплаты стоимости ее на 4 1/2 года из 6% годовых, а также цену отдельного участка за полотном жел. дороги, для сообщения доклада этих сведений общему собранию.
А на другой день, 29 января 1909 года, был получен от г. Эдельсона следующий ответ:
«Милостивый государь, Евгений Андреевич!
Должен сообщить Вам, что на последнем семейном совете мы приняли окончательное решете: ни одной десятины земли ни по какой цене, никому и нигде не продавать.
«В случай покупки обществом Поселка удельного участка, я могу для сообщения с полотном железной дороги отвести обществу потребную полосу земли на правах аренды.
«В заключение приходится подтвердить, что высказанные на собрании предположения о лихорадочности нашей местности вполне правильны, и что я, отказывая в продаже, тем самым как бы освобождаю себя от тех нареканий и проклятий, которые несомненно посылались бы в будущем на мою голову от членов Поселка.
«С истинным уважением…»
Ответ этот вместе с другими сведениями, добытыми из Крестьянского Банка, и списком записавшихся участников, достигшим к тому времени до 2105 лиц, был доложен следующему общему собранию, состоявшемуся в 12 час. дня 1-го февраля 1909 года в том же Пушкинском Народном Доме.
Г. Б–новь.
Так организовалось «Общество устройства и благоустройства пригородного поселка», задачами которого, согласно устава, было:
В июне 1910 года у Крестьянского Поземельного банка был куплен земельный участок площадью 336 десятин 1848 кв. саж. с рассрочкой платежа сроком на 20 лет. Участок находился на территории бывшего Десятого Сколковского удельного имения, в Алексеевской волости Самарского уезда близ села Смышляевка. Эта земля была поделена на 843 участка.
Уплатив 3 рубля вступительного взноса, член общества получал в собственность участок в 600-650 кв. саженей (участки распределялись жеребьевкой), за который в течении 10 лет был должен выплатить 175 рублей. Кроме того, «поселочник» ежегодно должен был платить «сбор на благоустройство» – по 2 копейки с каждой квадратной сажени.
Своей целью Общество считало «проведение культурных начал в экономической и в духовной жизни».
В поселке категорически воспрещалось устройство фабрик, гостиниц, игорных заведений, ростовщичество, торговля вином и пивом. Согласно устава, «член посёлка или члены его семьи, замеченные в продаже каких бы то ни было крепких напитков, немедленно исключаются навсегда из членов посёлка и в течение месячного срока обязан, не доводя дело до суда, ликвидировать свои дела по участку».
Делами Общества управлял Комитет, а все решения принимались на Общих собраниях Общества.
- приобретение земли для общественного пользования, а также движимого и недвижимого имущества и постройка жилых помещений;
- замощение, исправное содержание улиц и тротуаров;
- устройство прудов, мостов, стоков для воды;
- устройство поселка во врачебно-санитарном и гигиеническом отношении;
- устройство противопожарных мер;
- устройство школ, больниц, церквей, богаделен, приютов, общественного клуба, общественной библиотеки, читальни, литературных, вокальных и музыкальных вечеров;
- устройство дешевых и удобных способов сообщения и передвижения, как с посёлком, так равно и в пределах его;
- устройство электрического освещения;
- украшение местности;
- организация снабжения членов посёлка продуктами первой необходимости, а также строительными материалами на наивыгоднейших условиях.
В июне 1910 года у Крестьянского Поземельного банка был куплен земельный участок площадью 336 десятин 1848 кв. саж. с рассрочкой платежа сроком на 20 лет. Участок находился на территории бывшего Десятого Сколковского удельного имения, в Алексеевской волости Самарского уезда близ села Смышляевка. Эта земля была поделена на 843 участка.
Уплатив 3 рубля вступительного взноса, член общества получал в собственность участок в 600-650 кв. саженей (участки распределялись жеребьевкой), за который в течении 10 лет был должен выплатить 175 рублей. Кроме того, «поселочник» ежегодно должен был платить «сбор на благоустройство» – по 2 копейки с каждой квадратной сажени.
Своей целью Общество считало «проведение культурных начал в экономической и в духовной жизни».
В поселке категорически воспрещалось устройство фабрик, гостиниц, игорных заведений, ростовщичество, торговля вином и пивом. Согласно устава, «член посёлка или члены его семьи, замеченные в продаже каких бы то ни было крепких напитков, немедленно исключаются навсегда из членов посёлка и в течение месячного срока обязан, не доводя дело до суда, ликвидировать свои дела по участку».
Делами Общества управлял Комитет, а все решения принимались на Общих собраниях Общества.
Организатором Общества и его бессменным председателем самарские краеведы называют «инженера-путейца» Евгения Андреевича Зубчанинова, утверждая, что под умелым и чутким руководством которого Поселок, названный в его честь – Зубчаниновкой, в короткий срок превратился из пустынной степи в «город-сад».
Каково же было наше удивление, когда при прочтении газеты «Поселок» оказалось, что Евгений Андреевич Зубчанинов был Председателем Комитета всего 1,5 года: с 24 января 1910 года, когда на общем собрании был избран первый Комитет; и по 26 июля 1911 года, когда Е.А. Зубчанинов в своей статье («Поселок», №30) добровольно сложил с себя обязанности главы Комитета и передал их своему заместителю Георгию Николаевичу Алехину.
Каково же было наше удивление, когда при прочтении газеты «Поселок» оказалось, что Евгений Андреевич Зубчанинов был Председателем Комитета всего 1,5 года: с 24 января 1910 года, когда на общем собрании был избран первый Комитет; и по 26 июля 1911 года, когда Е.А. Зубчанинов в своей статье («Поселок», №30) добровольно сложил с себя обязанности главы Комитета и передал их своему заместителю Георгию Николаевичу Алехину.
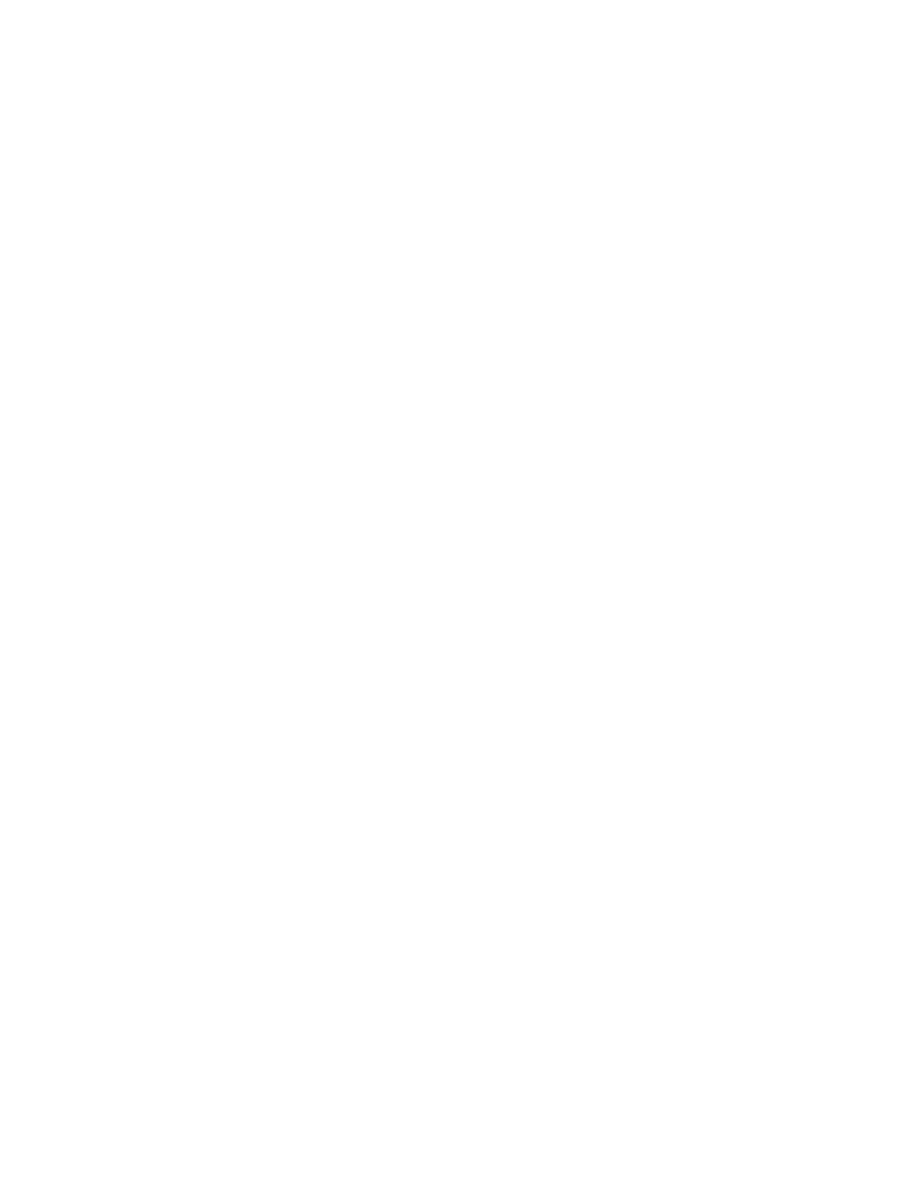
Евгений Андреевич Зубчанинов
Что же заставило Евгения Андреевича Зубчанинова уйти со своего поста?
Приводим текст полностью:
«В комитет Общества устройства Поселка вблизи Самары
Заявление
Члена Комитета Е.А Зубчанинова
Председательствование в Комитете, по уставу, обязывает председателя не только вести
заседания и руководить ими, но, главным образом, быть руководителем вообще в делах Общества. Так как этих дел у общества не мало, и так как опыт создания комиссий для выполнения различных дел дал, в некоторых случаях, отрицательные результаты не потому, чтобы неудачно были подобраны комиссии, а потому, что члены их люди занятые, и им некогда, и затем так как наиболее важный для созидательной работы летний период вынуждает членов комитета выезжать на дачи, почему ни одно из летних заседаний Комитета не имело и не могло иметь достаточного для решения вопросов членов комитета, то руководителю делами Общества, весьма часто, приходилось решать вопросы единолично, в особенности, когда решение их требовалось срочно.
Между прочим, такому нарушению общего порядка способствовало и сознание ответственности перед обществом, в тех случаях, когда непринятие мер грозило ущербом обществу (напр: произведенная без разрешения комитета поливка посадок по улицам и в питомниках!..)
Таким образом, создавшееся положение возлагало на руководителя всю ответственность за произведенные работы или произведенные расходы.
Мною это ясно сознавалось и сознается.
Поэтому, когда со стороны членов Общества или в печати высказывались по адресу Комитета упреки, эти упреки я должен быль принимать на свой счет и не мог поступать иначе. Сознаю, что некоторые упреки не должны бы были меня ни трогать, ни волновать, как упреки людей почти неграмотных в тех делах, критиковать которые они бросались; и раньше такие упреки меня не волновали, теперь же не могу относиться к ним пассивно.
Дошло даже до того, что упреки, высказывавшиеся за углом, перешли в упреки личные.
Один член нашего общества, когда я работал на своем огороде, идя к моему колодцу с ведром за водой, снимает шапку, здоровается и говорит так: «Пора бы Вам Е. А. поработать и для Общества. Полежаев загадил нам колодец, приходится ходить к Вам».
Я объяснился с ним, выяснил, что Полежаев живет от этого колодца в 1 версте и не мог его испортить, выяснил, что воду берут из их колодца мало и она начала загнивать, но не выяснил, чтобы этот человек понял, что он сказать обидное.
Другой член общества и член Ревизионной комиссии, в присутствии многих посельчан заявил мне так: «Вы слишком доверяетесь и потому потеряли симпатии Общества».
Может быть и так, подумал я, потому что Общество что-то перестало посещать Общие собрания, перестало реагировать на обращенные к нему запросы, допустило, чтобы состоялось совершенно убыточное для кооперации признание за отдельными членами права продажи участков на сторону, допустило избрание Ревизионной Комиссии нового состава, забраковав всеми признанный авторитет в бухгалтерии – H.С. Аринушкина. Я подумал, что может быть, действительно, многие теперь иначе думают на тему об общих задачах кооперации и нашего Общества и решил устраниться от руководительства. Думаю, что оставаясь дальше, я буду мешать общему ходу дела, если Обществу угодно этот ход изменить.
Изложив причины, побудившие меня к такому шагу, я заявляю Комитету, что должность Председателя Комитета с себя слагаю с сего числа и передаю ее моему первому заместителю Г.Н. Алехину.
Сознаю, что моральный долг перед общественностью меня обязывает быть на своем посту, но больше не могу. Нервы расстроились: теряю самообладание.
(Членом Комитета остаюсь).
26 июля 1911 г. Е. Зубчанинов
(«Поселок», №30, 1911 год)
Приводим текст полностью:
«В комитет Общества устройства Поселка вблизи Самары
Заявление
Члена Комитета Е.А Зубчанинова
Председательствование в Комитете, по уставу, обязывает председателя не только вести
заседания и руководить ими, но, главным образом, быть руководителем вообще в делах Общества. Так как этих дел у общества не мало, и так как опыт создания комиссий для выполнения различных дел дал, в некоторых случаях, отрицательные результаты не потому, чтобы неудачно были подобраны комиссии, а потому, что члены их люди занятые, и им некогда, и затем так как наиболее важный для созидательной работы летний период вынуждает членов комитета выезжать на дачи, почему ни одно из летних заседаний Комитета не имело и не могло иметь достаточного для решения вопросов членов комитета, то руководителю делами Общества, весьма часто, приходилось решать вопросы единолично, в особенности, когда решение их требовалось срочно.
Между прочим, такому нарушению общего порядка способствовало и сознание ответственности перед обществом, в тех случаях, когда непринятие мер грозило ущербом обществу (напр: произведенная без разрешения комитета поливка посадок по улицам и в питомниках!..)
Таким образом, создавшееся положение возлагало на руководителя всю ответственность за произведенные работы или произведенные расходы.
Мною это ясно сознавалось и сознается.
Поэтому, когда со стороны членов Общества или в печати высказывались по адресу Комитета упреки, эти упреки я должен быль принимать на свой счет и не мог поступать иначе. Сознаю, что некоторые упреки не должны бы были меня ни трогать, ни волновать, как упреки людей почти неграмотных в тех делах, критиковать которые они бросались; и раньше такие упреки меня не волновали, теперь же не могу относиться к ним пассивно.
Дошло даже до того, что упреки, высказывавшиеся за углом, перешли в упреки личные.
Один член нашего общества, когда я работал на своем огороде, идя к моему колодцу с ведром за водой, снимает шапку, здоровается и говорит так: «Пора бы Вам Е. А. поработать и для Общества. Полежаев загадил нам колодец, приходится ходить к Вам».
Я объяснился с ним, выяснил, что Полежаев живет от этого колодца в 1 версте и не мог его испортить, выяснил, что воду берут из их колодца мало и она начала загнивать, но не выяснил, чтобы этот человек понял, что он сказать обидное.
Другой член общества и член Ревизионной комиссии, в присутствии многих посельчан заявил мне так: «Вы слишком доверяетесь и потому потеряли симпатии Общества».
Может быть и так, подумал я, потому что Общество что-то перестало посещать Общие собрания, перестало реагировать на обращенные к нему запросы, допустило, чтобы состоялось совершенно убыточное для кооперации признание за отдельными членами права продажи участков на сторону, допустило избрание Ревизионной Комиссии нового состава, забраковав всеми признанный авторитет в бухгалтерии – H.С. Аринушкина. Я подумал, что может быть, действительно, многие теперь иначе думают на тему об общих задачах кооперации и нашего Общества и решил устраниться от руководительства. Думаю, что оставаясь дальше, я буду мешать общему ходу дела, если Обществу угодно этот ход изменить.
Изложив причины, побудившие меня к такому шагу, я заявляю Комитету, что должность Председателя Комитета с себя слагаю с сего числа и передаю ее моему первому заместителю Г.Н. Алехину.
Сознаю, что моральный долг перед общественностью меня обязывает быть на своем посту, но больше не могу. Нервы расстроились: теряю самообладание.
(Членом Комитета остаюсь).
26 июля 1911 г. Е. Зубчанинов
(«Поселок», №30, 1911 год)
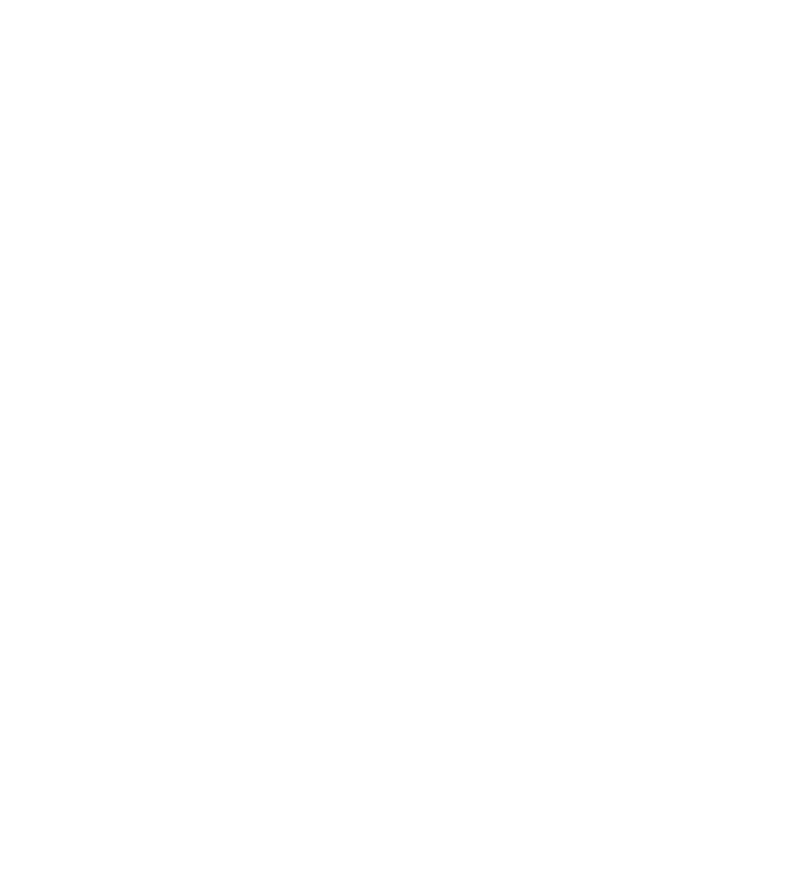
Газета «Поселок», №30, 1911 год
Это заявление Е.А. Зубчанинова выглядит скорее капризом и не дает понимания, в чем же состоял конфликт между ним и поселочниками?
Зубчанинов был мечтателем. Он писал: «Кооперативное общество тем и отличается от других обществ, что все члены кооперации преследуют одни и те же цели. Преследуя их, они проводят в жизнь все, что клонится к выполнению предварительных работ для достижения поставленных себе целей, а для успеха в этом общем деле, нам кажется, весьма важно, чтобы все члены одинаково понимали эти цели и не менее важно, чтобы способы выполнения предварительных работ, ведущих к общей, главной цели, были также усвоены и разделялись всеми членами общества».
Но большинству членов Общества были безразличны и эти цели, и кооперация. Они мечтали поскорее решить «жилищный вопрос» и ждали помощи от руководства поселка. Время шло, а не было ни обещанных ссуд, ни «обеспечения строительными материалами на наивыгоднейших условиях» (цитата из устава).
У Комитета просто не было свободных денег. Далеко не все «поселочники» вовремя и исправно платили взносы за землю и сборы на благоустройство. Росло недовольство «плательщиков». Зубчанинов оправдывал «неплательщиков» бедностью, но ему возражали, что не платят, как правило, самые богатые и призывали исключать их из Общества. Зубчанинов взывал к «терпимости» и «взаимопомощи».
Кроме того, в строящемся поселке было множество бытовых проблем, например, отсутствие воды. 12 колодцев, вырытые в первый год строительства, не решали нужд огромного количества участков.
Добираться до поселка было трудно – поезда не останавливались, приходилось идти пешком от станции Смышляевка.
Недовольство вызывала также невозможность продать свой участок без согласия Комитета, закрепленная в уставе. Зубчанинов был сторонником того, что «оставляющему общество выдаются лишь его взносы, а земля остается в обществе» («Поселок», №14, 1911 г.).
Многие мечтали стать юридическими собственниками своих участков, получить «купчую крепость», боялись вкладывать деньги в строительство, не имея прав собственности. Но получить их было возможно только после того, как Общество погасит плату за землю Крестьянскому Банку.
Зубчанинов был категорическим противником досрочного выкупа земли. Он убеждал, что с выдачей раздельных актов каждому участнику, общество распадется; уничтожится устав, связывающий известную группу лиц; не будут достигнуты цели и задачи Общества, возникшего на кооперативных началах и вообще – не будет существовать кооперация.
В это время недалеко от Зубчаниновского поселка начал организовываться новый поселок на земле Бориса Евгеньевича Эдельсона, в котором «купчую крепость» сразу выдавали на руки, хотя плата за землю тоже отсрочивалась. Стоимость земли в Зубчаниновке стала падать, что не могло не беспокоить «поселочников».
И наконец, Ревизионная комиссия, существовавшая в поселке, стала обвинять Комитет во главе с Е.А. Зубчаниновым в нецелевом и бесконтрольном расходовании средств Общества.
Все эти факторы спровоцировали недовольство большей частью поселочников действиями Зубчанинова.
И нам, авторам этой статьи, кажется, что он был очень уязвлен и даже как-то обиделся на членов Общества. «Не следует забывать, что 700 сочленов, идя солидарно к определенно поставленной себе экономической цели, могут многое сделать для улучшения условий своей жизни, но беда в том, что мы, кажется очень уж энергично стараемся забыть то, что раньше было нашим девизом, – чего мы хотели и к чему стремились», – писал он. («Поселочная жизнь», №34-35, 1913 г.)
И именно поэтому 26 июля 1911 года он ушел с поста Председателя Комитета. Скорее всего, он втайне надеялся, что Общество осознает свои ошибки и попросит его вернуться к руководству.
Но этого не случилось. 12 мая 1912 года, произошли перевыборы, и Председателем Комитета был избран Александр Павлович Поспелов, который оставался в этой должности вплоть до 1917 года.
Евгений Андреевич, как видно из газет, сразу занял оппонирующую позицию к Комитету под руководством А.П. Поспелова, критиковал все его действия, часто председательствовал на Общих собраниях, но существенно повлиять на ход развития Общества уже не мог.
Зубчанинов был мечтателем. Он писал: «Кооперативное общество тем и отличается от других обществ, что все члены кооперации преследуют одни и те же цели. Преследуя их, они проводят в жизнь все, что клонится к выполнению предварительных работ для достижения поставленных себе целей, а для успеха в этом общем деле, нам кажется, весьма важно, чтобы все члены одинаково понимали эти цели и не менее важно, чтобы способы выполнения предварительных работ, ведущих к общей, главной цели, были также усвоены и разделялись всеми членами общества».
Но большинству членов Общества были безразличны и эти цели, и кооперация. Они мечтали поскорее решить «жилищный вопрос» и ждали помощи от руководства поселка. Время шло, а не было ни обещанных ссуд, ни «обеспечения строительными материалами на наивыгоднейших условиях» (цитата из устава).
У Комитета просто не было свободных денег. Далеко не все «поселочники» вовремя и исправно платили взносы за землю и сборы на благоустройство. Росло недовольство «плательщиков». Зубчанинов оправдывал «неплательщиков» бедностью, но ему возражали, что не платят, как правило, самые богатые и призывали исключать их из Общества. Зубчанинов взывал к «терпимости» и «взаимопомощи».
Кроме того, в строящемся поселке было множество бытовых проблем, например, отсутствие воды. 12 колодцев, вырытые в первый год строительства, не решали нужд огромного количества участков.
Добираться до поселка было трудно – поезда не останавливались, приходилось идти пешком от станции Смышляевка.
Недовольство вызывала также невозможность продать свой участок без согласия Комитета, закрепленная в уставе. Зубчанинов был сторонником того, что «оставляющему общество выдаются лишь его взносы, а земля остается в обществе» («Поселок», №14, 1911 г.).
Многие мечтали стать юридическими собственниками своих участков, получить «купчую крепость», боялись вкладывать деньги в строительство, не имея прав собственности. Но получить их было возможно только после того, как Общество погасит плату за землю Крестьянскому Банку.
Зубчанинов был категорическим противником досрочного выкупа земли. Он убеждал, что с выдачей раздельных актов каждому участнику, общество распадется; уничтожится устав, связывающий известную группу лиц; не будут достигнуты цели и задачи Общества, возникшего на кооперативных началах и вообще – не будет существовать кооперация.
В это время недалеко от Зубчаниновского поселка начал организовываться новый поселок на земле Бориса Евгеньевича Эдельсона, в котором «купчую крепость» сразу выдавали на руки, хотя плата за землю тоже отсрочивалась. Стоимость земли в Зубчаниновке стала падать, что не могло не беспокоить «поселочников».
И наконец, Ревизионная комиссия, существовавшая в поселке, стала обвинять Комитет во главе с Е.А. Зубчаниновым в нецелевом и бесконтрольном расходовании средств Общества.
Все эти факторы спровоцировали недовольство большей частью поселочников действиями Зубчанинова.
И нам, авторам этой статьи, кажется, что он был очень уязвлен и даже как-то обиделся на членов Общества. «Не следует забывать, что 700 сочленов, идя солидарно к определенно поставленной себе экономической цели, могут многое сделать для улучшения условий своей жизни, но беда в том, что мы, кажется очень уж энергично стараемся забыть то, что раньше было нашим девизом, – чего мы хотели и к чему стремились», – писал он. («Поселочная жизнь», №34-35, 1913 г.)
И именно поэтому 26 июля 1911 года он ушел с поста Председателя Комитета. Скорее всего, он втайне надеялся, что Общество осознает свои ошибки и попросит его вернуться к руководству.
Но этого не случилось. 12 мая 1912 года, произошли перевыборы, и Председателем Комитета был избран Александр Павлович Поспелов, который оставался в этой должности вплоть до 1917 года.
Евгений Андреевич, как видно из газет, сразу занял оппонирующую позицию к Комитету под руководством А.П. Поспелова, критиковал все его действия, часто председательствовал на Общих собраниях, но существенно повлиять на ход развития Общества уже не мог.
Но кто же такой этот А.П. Поспелов, и почему именно его зубчаниновцы выбрали на пост Председателя Комитета?
Александр Павлович Поспелов родился 24 июня 1879 года в семье священника Павла Петровича Поспелова и его жены Анны Аристарховны, в девичестве Борисовой. Детские годы он провел в селе Богдановка Бузулукского уезда Самарской губернии.
Александр Павлович окончил Самарскую духовную семинарию и Санкт-Петербургскую духовную академию. С 1904 года он служил преподавателем истории, географии и дидактики в Самарском епархиальном училище.
В 1905 году он женился на дочери дьякона села Исаклы Бугурусланского уезда Александре Николаевне Цветковой, в семье было 3 детей – Борис (1906), Ольга (1907) и Георгий (1910).
На момент вступления его в должность Председателя Комитета ему было 33 года.
Александр Павлович Поспелов родился 24 июня 1879 года в семье священника Павла Петровича Поспелова и его жены Анны Аристарховны, в девичестве Борисовой. Детские годы он провел в селе Богдановка Бузулукского уезда Самарской губернии.
Александр Павлович окончил Самарскую духовную семинарию и Санкт-Петербургскую духовную академию. С 1904 года он служил преподавателем истории, географии и дидактики в Самарском епархиальном училище.
В 1905 году он женился на дочери дьякона села Исаклы Бугурусланского уезда Александре Николаевне Цветковой, в семье было 3 детей – Борис (1906), Ольга (1907) и Георгий (1910).
На момент вступления его в должность Председателя Комитета ему было 33 года.
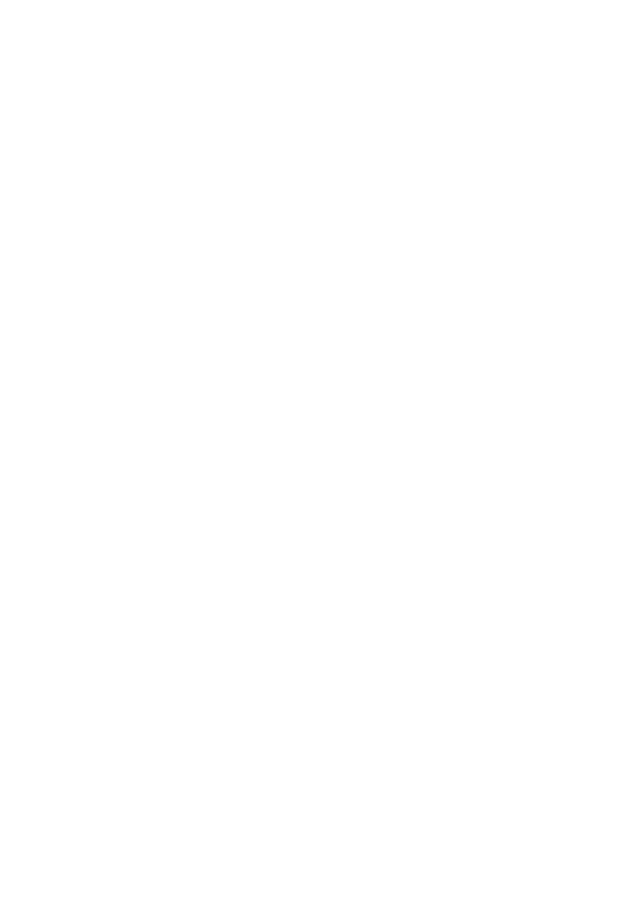
Александр Павлович Поспелов с женой Александрой Николаевной и детьми Борисом, Ольгой, Георгием. 1913 год
В 1944 году, через 30 лет после описываемых событий, Александр Павлович Поспелов написал воспоминания, в которых подробно рассказал об истории Зубчаниновского поселка и своей роли в ней.
Зубчаниновский посёлок
Как-то однажды в учительской кто-то передал, что организуется «Общество устройства и благоустройства пригородного поселка» на кооперативных началах, и что уже началась запись в члены этого Общества. Я решил познакомиться с уставом этого Общества и его задачами, и отправился в «Клуб приказчиков» (основан в 1905 году), где уже производилась запись в члены. Задача общества – дать возможность рабочим и служащим (домовладельцев и торговцев в члены общества не принимали) выселится из душных, тесных и дорогих квартир на лето за город и самим устраивать свою жизнь на кооперативных началах. Это идея мне очень понравилась, и я внес установленный в кооператив взнос – 3 рубля, и сделался членом организуемого посёлка.
Основателями Общества были работник Губернского правления Зубчанинов Евгений Андреевич и лесничий Алёхин. Это было в 1908 году. До 1910 года, проходил организационный период. Записалось несколько сот человек. На общих собраниях велись бесконечные споры. Между тенденциозными замыслами самих организаторов и стремлениями служащих, желающих поскорее лично устроиться, было много разногласий. Дело затянулось до 1910 года и лишь весной этого года, когда я потерял всякую надежду на возможность каких-либо реальных результатов, всё же общество купило с рассрочкой платежа на 20 лет участок земли в 17 верстах от Самары между станциями Безымянка и деревней Смышляевка, в 2 верстах от реки Самарки, участок пустынный и неосвоенный.
Это была ровная площадь, кое-где пересекаемая оврагами, которые весной затоплялись. Эта земля почти никогда не заселялась, целина, покрытая ковылем, с прекрасной черноземной площадью мощностью до ¾ метра.
Выбор участка вызвал большие нарекания: далеко от города и от Безымянки – 5 км, трудность доставки строительных материалов, отсутствие воды. Многие взяли свои вступительные взносы обратно. Я, конечно, не имел гроша в кармане и не мог рассчитывать на какую-то реальную пользу от этого начинания, но всё же решил подождать и посмотреть, что же из этого выйдет. А между тем земля была куплена, разделена на 800 с лишним участков, разбита на кварталы и улицы, оставлено было большое место для площади и общественного парка. Алехин стал производить по улицам засаждение берёзами, клёнами и другими деревьями лесным способом. Организовали лесной склад.
Приступили к жеребьевке. Я вытащил прекрасный жребий – участок в 650 квадратных саженей №652 на будущей главной улице, в 7 минутах ходьбы от линии железной дороги. Открытие посёлка было обставлено особенно торжественно: была поставлена палатка, в которой после торжественного молебна с приглашенными из города знатными гостями организаторы имели неосторожность на глазах у посёлочников задать пир с оркестром, танцами и обильным угощением.
Я помню первый поезд, остановку среди голой степи и будущих «помещиков», целыми семьями шагавших на свои участки. Мы тоже явились всей семьёй, с чайником и корзиной с продовольствием. Еле нашли незаметный кол с номером участка, покрытый высокой травой. Набрали «кизяков» и сухой травы, разожгли костер и тоже справили новоселье. Позавидовали пирующим, которые прогуливались на свежем воздухе. Вернулись в город в настроении, что посёлок для нас – неосуществимая мечта.
Правда, за землю надо было заплатить 175 рублей с рассрочкой в 10 лет, и по 2 копейки с сажени (13 рублей) на благоустройство поселка. Вскоре потребовали загородить участки, причём заборы делал Комитет с рассрочкой платежа. Изгородь сделали и на этом успокоились до более благоприятного будущего. Участок продолжал зарастать бурьяном, а хозяева участка № 652 уехали на дачу, не веря в будущее посёлка.
А между тем посёлок начал проявлять признаки жизни. Прежде всего участки начали осваивать те, кто имел деньги и смотрел на общество с точки зрения льготной покупки земли, нисколько не интересуясь высокими принципами Общества.
Привезли лес, стали строить дома и засаживать участки садами, огородными культурами, многие – картофелем. Но большинство участков пустовало, так как средств на постройку не было, а для производства насаждений ходить за 17 вёрст было невозможно. Железная дорога отказывалась давать поезда, пока не будет сделаны платформа и вокзал, а на это не было средств. Но Комитет не терялся. Пользуясь теорией «дальнего прицела», они начали строить общественные здания и лесной склад. Купили около 100 срубов и доставили их на склад. Заложили питомник декоративных и плодовых деревьев. Внесли деньги на платформу и добились остановок нескольких поездов, одного специального поезда по воскресеньям. Производили уличные посадки.
К комитету вскоре присоединились «дельцы» типа приказчика Баранова, а Зубчанинов с товарищами как-то не спускались с высоты и вели свою линию, не считаясь с общественным мнением.
В посёлке образовались четыре группы:
1. Зубчаниновская – с широким размахом, знакомая с основами кооперации, имевшая связи с административными и финансовыми кругами, не считавшаяся в имя будущего с финансовыми затратами.
2. Сухановская – вокруг Суханова С.М., председателя Ревизионной Комиссии кооператива, бухгалтера, практика, незнакомого с кооперацией, но щепетильного по отношению к общественным средствам, не верящего в честность Комитета и его руководителей.
3. Людей, ожидающих кое-какой помощи от Общества для реализации основной цели – поставить дом и переехать на жительство в поселок.
4. И, наконец, большая группа «диких», которым никакого дела не было до забот Общества, но которые старались воспользоваться тем, что даёт Комитет и ничем мне помогать Обществу. В число последних проникли домовладельцы и торговцы, записавшие участки на своих жен или детей (последние формально никакой недвижимости не имели). Эта группа требовала выделения участков в полную собственность и полной независимости от Общества и его Комитета. Старались подорвать доверие к новому Обществу и те, кого не приняли в его члены – домовладельцы и торговцы.
Борьбы между Комитетом и Ревизионной комиссией приняла острые формы. Поселочная газета «Посёлок», редактируемая Зубчаниновым, бесцеремонно пользовалась правом хозяина и старалась всячески унизить Ревизионную комиссию, обличая её в невежестве и непонимании задач Общества. Заседания Комитета превращались в сплошные скандалы. На общих собраниях обличали Комитет во всевозможных злоупотреблениях, причём Комитет не оставался в долгу.
Зубчаниновский посёлок
Как-то однажды в учительской кто-то передал, что организуется «Общество устройства и благоустройства пригородного поселка» на кооперативных началах, и что уже началась запись в члены этого Общества. Я решил познакомиться с уставом этого Общества и его задачами, и отправился в «Клуб приказчиков» (основан в 1905 году), где уже производилась запись в члены. Задача общества – дать возможность рабочим и служащим (домовладельцев и торговцев в члены общества не принимали) выселится из душных, тесных и дорогих квартир на лето за город и самим устраивать свою жизнь на кооперативных началах. Это идея мне очень понравилась, и я внес установленный в кооператив взнос – 3 рубля, и сделался членом организуемого посёлка.
Основателями Общества были работник Губернского правления Зубчанинов Евгений Андреевич и лесничий Алёхин. Это было в 1908 году. До 1910 года, проходил организационный период. Записалось несколько сот человек. На общих собраниях велись бесконечные споры. Между тенденциозными замыслами самих организаторов и стремлениями служащих, желающих поскорее лично устроиться, было много разногласий. Дело затянулось до 1910 года и лишь весной этого года, когда я потерял всякую надежду на возможность каких-либо реальных результатов, всё же общество купило с рассрочкой платежа на 20 лет участок земли в 17 верстах от Самары между станциями Безымянка и деревней Смышляевка, в 2 верстах от реки Самарки, участок пустынный и неосвоенный.
Это была ровная площадь, кое-где пересекаемая оврагами, которые весной затоплялись. Эта земля почти никогда не заселялась, целина, покрытая ковылем, с прекрасной черноземной площадью мощностью до ¾ метра.
Выбор участка вызвал большие нарекания: далеко от города и от Безымянки – 5 км, трудность доставки строительных материалов, отсутствие воды. Многие взяли свои вступительные взносы обратно. Я, конечно, не имел гроша в кармане и не мог рассчитывать на какую-то реальную пользу от этого начинания, но всё же решил подождать и посмотреть, что же из этого выйдет. А между тем земля была куплена, разделена на 800 с лишним участков, разбита на кварталы и улицы, оставлено было большое место для площади и общественного парка. Алехин стал производить по улицам засаждение берёзами, клёнами и другими деревьями лесным способом. Организовали лесной склад.
Приступили к жеребьевке. Я вытащил прекрасный жребий – участок в 650 квадратных саженей №652 на будущей главной улице, в 7 минутах ходьбы от линии железной дороги. Открытие посёлка было обставлено особенно торжественно: была поставлена палатка, в которой после торжественного молебна с приглашенными из города знатными гостями организаторы имели неосторожность на глазах у посёлочников задать пир с оркестром, танцами и обильным угощением.
Я помню первый поезд, остановку среди голой степи и будущих «помещиков», целыми семьями шагавших на свои участки. Мы тоже явились всей семьёй, с чайником и корзиной с продовольствием. Еле нашли незаметный кол с номером участка, покрытый высокой травой. Набрали «кизяков» и сухой травы, разожгли костер и тоже справили новоселье. Позавидовали пирующим, которые прогуливались на свежем воздухе. Вернулись в город в настроении, что посёлок для нас – неосуществимая мечта.
Правда, за землю надо было заплатить 175 рублей с рассрочкой в 10 лет, и по 2 копейки с сажени (13 рублей) на благоустройство поселка. Вскоре потребовали загородить участки, причём заборы делал Комитет с рассрочкой платежа. Изгородь сделали и на этом успокоились до более благоприятного будущего. Участок продолжал зарастать бурьяном, а хозяева участка № 652 уехали на дачу, не веря в будущее посёлка.
А между тем посёлок начал проявлять признаки жизни. Прежде всего участки начали осваивать те, кто имел деньги и смотрел на общество с точки зрения льготной покупки земли, нисколько не интересуясь высокими принципами Общества.
Привезли лес, стали строить дома и засаживать участки садами, огородными культурами, многие – картофелем. Но большинство участков пустовало, так как средств на постройку не было, а для производства насаждений ходить за 17 вёрст было невозможно. Железная дорога отказывалась давать поезда, пока не будет сделаны платформа и вокзал, а на это не было средств. Но Комитет не терялся. Пользуясь теорией «дальнего прицела», они начали строить общественные здания и лесной склад. Купили около 100 срубов и доставили их на склад. Заложили питомник декоративных и плодовых деревьев. Внесли деньги на платформу и добились остановок нескольких поездов, одного специального поезда по воскресеньям. Производили уличные посадки.
К комитету вскоре присоединились «дельцы» типа приказчика Баранова, а Зубчанинов с товарищами как-то не спускались с высоты и вели свою линию, не считаясь с общественным мнением.
В посёлке образовались четыре группы:
1. Зубчаниновская – с широким размахом, знакомая с основами кооперации, имевшая связи с административными и финансовыми кругами, не считавшаяся в имя будущего с финансовыми затратами.
2. Сухановская – вокруг Суханова С.М., председателя Ревизионной Комиссии кооператива, бухгалтера, практика, незнакомого с кооперацией, но щепетильного по отношению к общественным средствам, не верящего в честность Комитета и его руководителей.
3. Людей, ожидающих кое-какой помощи от Общества для реализации основной цели – поставить дом и переехать на жительство в поселок.
4. И, наконец, большая группа «диких», которым никакого дела не было до забот Общества, но которые старались воспользоваться тем, что даёт Комитет и ничем мне помогать Обществу. В число последних проникли домовладельцы и торговцы, записавшие участки на своих жен или детей (последние формально никакой недвижимости не имели). Эта группа требовала выделения участков в полную собственность и полной независимости от Общества и его Комитета. Старались подорвать доверие к новому Обществу и те, кого не приняли в его члены – домовладельцы и торговцы.
Борьбы между Комитетом и Ревизионной комиссией приняла острые формы. Поселочная газета «Посёлок», редактируемая Зубчаниновым, бесцеремонно пользовалась правом хозяина и старалась всячески унизить Ревизионную комиссию, обличая её в невежестве и непонимании задач Общества. Заседания Комитета превращались в сплошные скандалы. На общих собраниях обличали Комитет во всевозможных злоупотреблениях, причём Комитет не оставался в долгу.
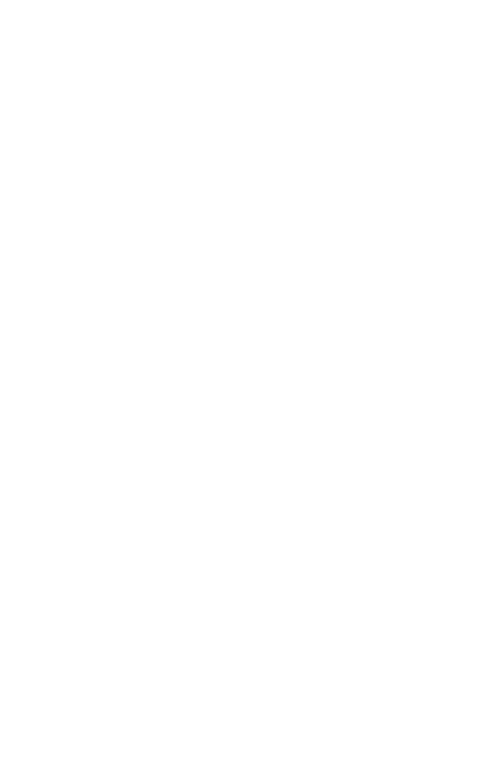
Александр Павлович Поспелов
Я лично несколько раз уходил с таких собраний с подавленным настроением. Мне казалось, что Общество накануне распада. Кульминационным моментом было Общее собрание для утверждения отчета Комитета о результатах работы в 1910 году. Ревизионная комиссия не только не утвердила финансовый отчёт, но выступила с обвинением Комитета в хищении общественных сумм и бесхозяйственности, и требовала предания Комитета суду. Сторонники Зубчанинова – Благовещенский и Алёхин – вызывающие возражали, и внесли предложения выразить благодарность Зубчанинову и недоверие ревизионной комиссии.
Страсти разгорелись. Собрание было многолюдным. Выступающих ораторов различных групп встречали шумом и свистом. Нарастал скандал. Я с большим волнением наблюдал развернувшуюся картину. Мне казалось, что это конец Посёлка, где мне много начинало нравиться. Я решила выступить. Это выступление было одним из самых удачных за всю мою жизнь. Она было выступлением нейтрального члена Общества, не принадлежащего ни к какой группировке, но человека, доверяющего Обществу и желающего добра и дававшее выход из создавшегося тупика. Так как это выступление имело большое значение в жизни Поселка и в моей личной и общественной работе, то оно запомнилось на всю жизнь. Оно носила характер искренности и полной беспристрастности, и было приблизительно таким:
«Мне, как члену Общества, очень тяжело присутствовать на таком собрании, где личные оскорбления начинает затушевывать общественные интересы. Разрешите мне, человеку новому, рядовому члену Общества, высказать своё мнение.
Мы, члены Посёлка, безусловно должны быть благодарны Зубчанинову и его помощникам за ту работу, которую они провели в деле организации поселка. Мы имеем участки земли, начали получать некоторую помощь от Общества. Признательность Зубчанинову Обществом выражена тем, что посёлок назван его именем, что ему дали участок на улице, названной также Зубчаниновской. Но никто не давал права Комитету бесконтрольно хозяйничать и, как бы ни были преувеличены обвинения Ревизионной комиссии, изложенные в заключении по отчёту, всё же следует признать, что элементы бесхозяйственности и слишком свободного обращения с общественными средствами вероятно имеют здесь место. Нельзя думать, что Ревизионная комиссия, облеченная доверием Общества, строит свои смелые заключения на каких-то личных счетах. Но нельзя во всём согласиться и с Ревизионной комиссией. Во многих пунктах её заключения сквозит желание не объективной истины, а обвинительного акта, основанного на субъективных впечатлениях.
И если сейчас одна сторона требует выражения благодарности Зубчанинову, а другая – предания суду этого же Комитета, то очевидно, что спокойного обсуждения вопроса об утверждении отчета на настоящем собрании быть не может. Нужно собрание отложить и избрать особую комиссию, наблюдательную, которая бы беспристрастно рассмотрела заключение Ревизионной комиссии и объяснения Комитета по всем без исключения пунктам, и в месячный срок представила бы заключение на Общее собрание.
И лишь после доклада этой комиссии можно сделать вывод об отчете и выяснить своё отношение к работе Комитета. В особую комиссию я предлагаю избрать одного представителя от Общего собрания и по три человека от Комитета и Ревизионной комиссии по их выбору. Председателем комиссии должен быть представитель от Общего собрания».
Страсти разгорелись. Собрание было многолюдным. Выступающих ораторов различных групп встречали шумом и свистом. Нарастал скандал. Я с большим волнением наблюдал развернувшуюся картину. Мне казалось, что это конец Посёлка, где мне много начинало нравиться. Я решила выступить. Это выступление было одним из самых удачных за всю мою жизнь. Она было выступлением нейтрального члена Общества, не принадлежащего ни к какой группировке, но человека, доверяющего Обществу и желающего добра и дававшее выход из создавшегося тупика. Так как это выступление имело большое значение в жизни Поселка и в моей личной и общественной работе, то оно запомнилось на всю жизнь. Оно носила характер искренности и полной беспристрастности, и было приблизительно таким:
«Мне, как члену Общества, очень тяжело присутствовать на таком собрании, где личные оскорбления начинает затушевывать общественные интересы. Разрешите мне, человеку новому, рядовому члену Общества, высказать своё мнение.
Мы, члены Посёлка, безусловно должны быть благодарны Зубчанинову и его помощникам за ту работу, которую они провели в деле организации поселка. Мы имеем участки земли, начали получать некоторую помощь от Общества. Признательность Зубчанинову Обществом выражена тем, что посёлок назван его именем, что ему дали участок на улице, названной также Зубчаниновской. Но никто не давал права Комитету бесконтрольно хозяйничать и, как бы ни были преувеличены обвинения Ревизионной комиссии, изложенные в заключении по отчёту, всё же следует признать, что элементы бесхозяйственности и слишком свободного обращения с общественными средствами вероятно имеют здесь место. Нельзя думать, что Ревизионная комиссия, облеченная доверием Общества, строит свои смелые заключения на каких-то личных счетах. Но нельзя во всём согласиться и с Ревизионной комиссией. Во многих пунктах её заключения сквозит желание не объективной истины, а обвинительного акта, основанного на субъективных впечатлениях.
И если сейчас одна сторона требует выражения благодарности Зубчанинову, а другая – предания суду этого же Комитета, то очевидно, что спокойного обсуждения вопроса об утверждении отчета на настоящем собрании быть не может. Нужно собрание отложить и избрать особую комиссию, наблюдательную, которая бы беспристрастно рассмотрела заключение Ревизионной комиссии и объяснения Комитета по всем без исключения пунктам, и в месячный срок представила бы заключение на Общее собрание.
И лишь после доклада этой комиссии можно сделать вывод об отчете и выяснить своё отношение к работе Комитета. В особую комиссию я предлагаю избрать одного представителя от Общего собрания и по три человека от Комитета и Ревизионной комиссии по их выбору. Председателем комиссии должен быть представитель от Общего собрания».
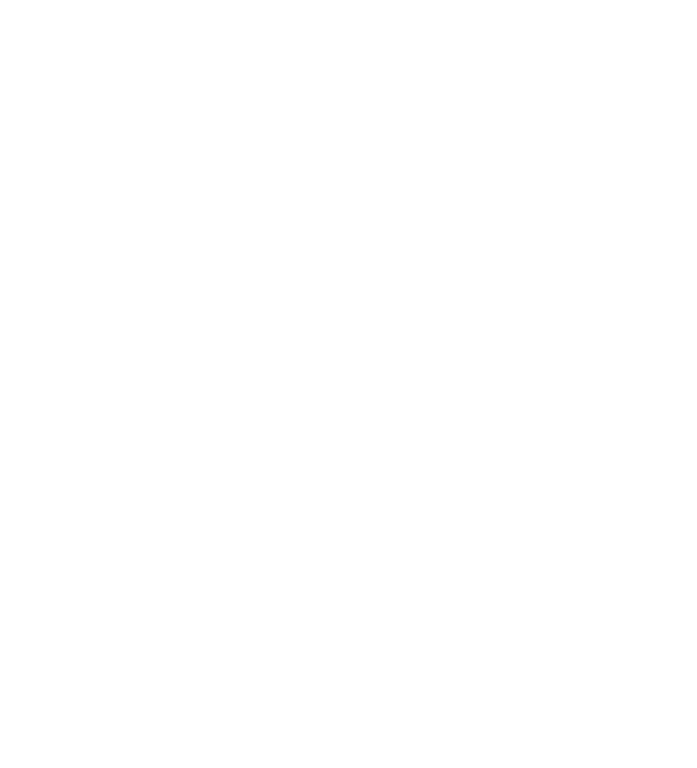
Выдержка из протокола Общего собрания, опубликованного в газете «Поселок», №42, 1911 год
Моё выступление было выслушано с большим вниманием и сопровождалось аплодисментами всего собрания без различия группировок. Зубчанинов от Комитета и Суханов от Ревизионной комиссии заявили о своем согласии перенести разногласия в предлагаемую мной комиссию и согласились с её составом. Собрание единогласно приняло моё предложение и также единогласно выбрало Председателем от Общего собрания меня. Так я сразу попал в судьи этого чрезвычайно запутанного дела, в котором было кровно заинтересовано около двух тысяч людей (с членами семьи). С этого дня началась моя общественная работа в Самаре.
***
Моё положение было не из легких. Комитет выбрал в комиссию Зубчанинова и Алёхина, Ревизионная комиссия – Суханова и Баранова, люди противоположных лагерей и я один был нейтральным лицом. Первые заседания комиссии показали, насколько трудно примирить непримиримое. Но мне хотелось во что бы то ни стало спасти общество от развала, и я всячески старался сгладить острые углы. Работа была напряженная и нервная. И та, и другая сторона хотели меня сделать своим сторонникам.
Зубчанинов и Алехин приглашали меня в ресторан, где всячески клеймили своих противников. За ужином я мог быть с ними более откровенным и заявил, что так распоряжаться общественными средствами, как это делали они, конечно нельзя, и у их противников есть серьезные основания предъявлять им некоторые обвинения. Суханов и Баранов ставили со своей стороны вопрос о предании суду главарей Комитета. Мне удалось в частных беседах доказать им, что здесь не было злоупотреблений, а была бесхозяйственность, и что нужно спасти честь Посёлка в глазах Общества, которое за нами внимательно следит.
В конце концов по всем пунктам нам удалось добиться таких формулировок, которые могли быть подписаны всеми. Над этими формулировками мне пришлось много поразмыслить при составлении доклада на Общем собрании. Через месяц работа была закончена, и состоялось общее собрание с вопросами утверждения отчета, выборов в Комитет и в Ревизионную комиссию.
***
Моё положение было не из легких. Комитет выбрал в комиссию Зубчанинова и Алёхина, Ревизионная комиссия – Суханова и Баранова, люди противоположных лагерей и я один был нейтральным лицом. Первые заседания комиссии показали, насколько трудно примирить непримиримое. Но мне хотелось во что бы то ни стало спасти общество от развала, и я всячески старался сгладить острые углы. Работа была напряженная и нервная. И та, и другая сторона хотели меня сделать своим сторонникам.
Зубчанинов и Алехин приглашали меня в ресторан, где всячески клеймили своих противников. За ужином я мог быть с ними более откровенным и заявил, что так распоряжаться общественными средствами, как это делали они, конечно нельзя, и у их противников есть серьезные основания предъявлять им некоторые обвинения. Суханов и Баранов ставили со своей стороны вопрос о предании суду главарей Комитета. Мне удалось в частных беседах доказать им, что здесь не было злоупотреблений, а была бесхозяйственность, и что нужно спасти честь Посёлка в глазах Общества, которое за нами внимательно следит.
В конце концов по всем пунктам нам удалось добиться таких формулировок, которые могли быть подписаны всеми. Над этими формулировками мне пришлось много поразмыслить при составлении доклада на Общем собрании. Через месяц работа была закончена, и состоялось общее собрание с вопросами утверждения отчета, выборов в Комитет и в Ревизионную комиссию.
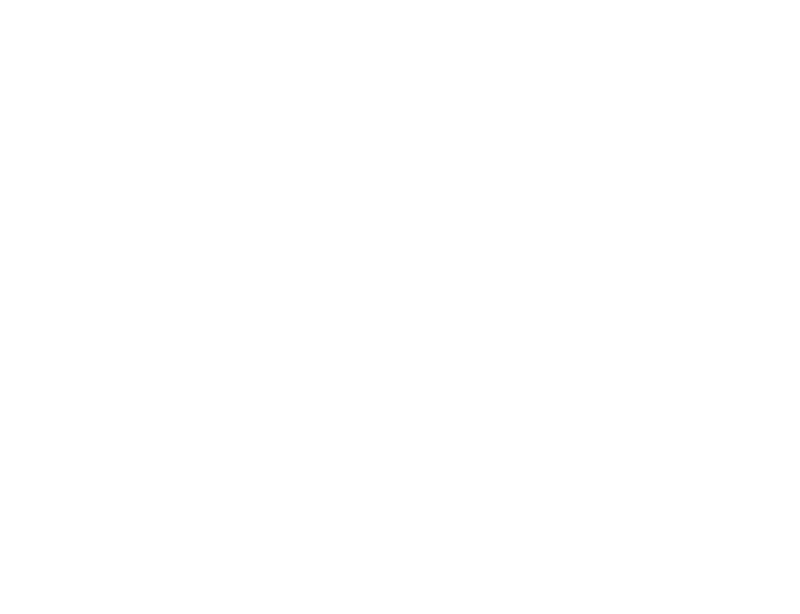
Объявление, напечатанное в газете «Поселок», №3-4, 1912 год
На собрание явились почти все посёлочники, но страсти уже несколько улеглись. Всем хотелось, чтобы склока была закончена и Комитет спокойно принялся бы за работу. Доклад был высушен с большим вниманием. Я отдал должное и работе Комитета, и работе Ревизионной комиссии, доказал, что в работе Комитета, наряду с большой полезной деятельностью, были элементы бесхозяйственности, вскрытые Ревизионной комиссией, но не такие, чтобы кого-то можно было бы привлекать к суду, и предлагал от лица Наблюдательного комитета утвердить отчет и предложить будущему Комитету в своих расходах строго придерживаться утвержденных Общим собранием смет и не проводить расходов сверх сметы.
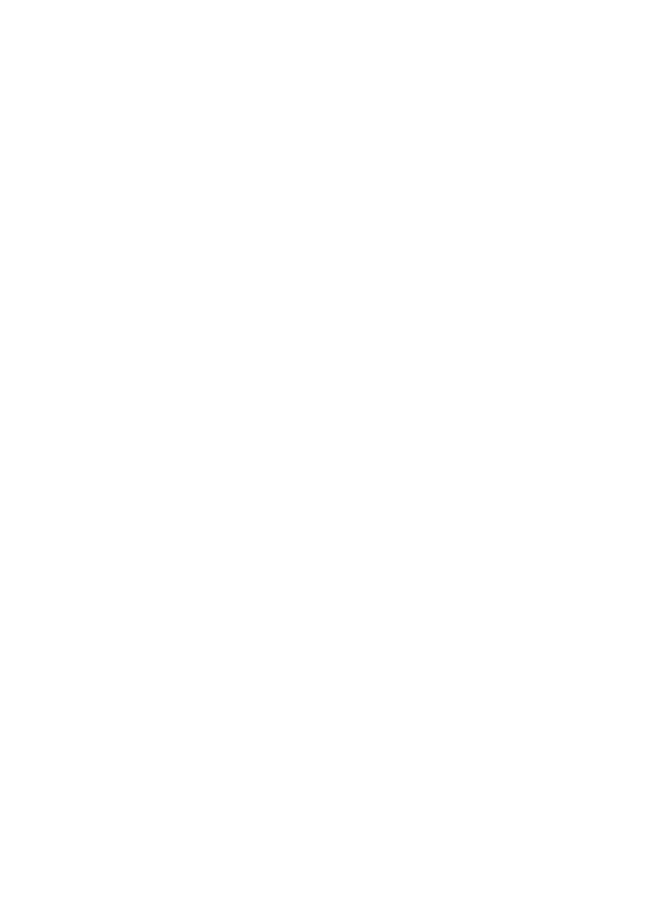
Выдержка из Доклада Наблюдательной комиссии, опубликованного «Поселок», №5-6, 1912 год
Попытка Благовещенского и Анисимова вновь заострить противоречия успеха не имела и отчёт с резолюцией, мной предложенной, был утверждён почти единогласно. После этого были проведены закрытым голосованием выборы в Комитет, причем подавляющее большинство голосов было подано за меня. Я оказался первым кандидатом. В Комитет попали и вся Наблюдательная комиссия, и самые крайние сторонники старого Комитета и Ревизионной комиссии. На первом организационном заседании Комитета я был избран подавляющим большинством голосов Председателем комитета. Кандидатура Зубчанинова провалилась.
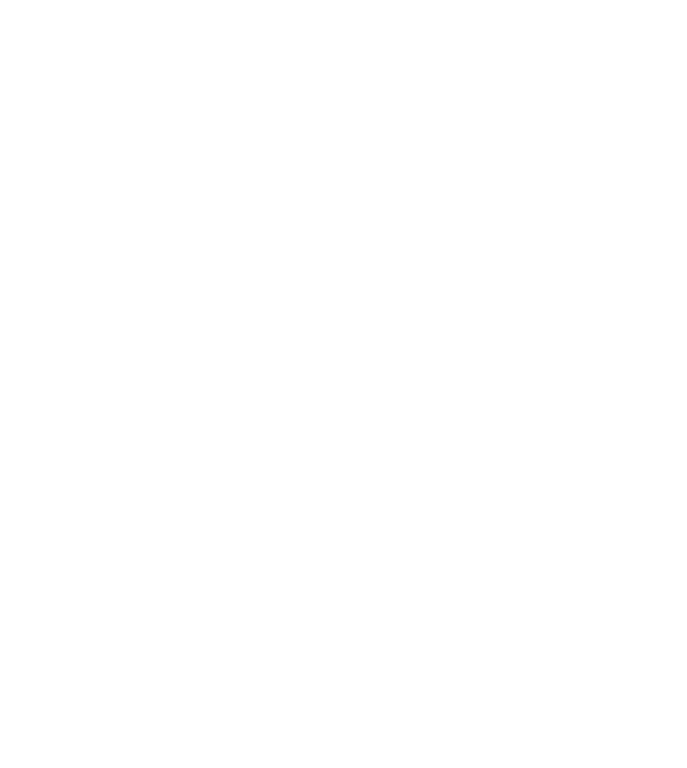
Выдержка из протокола Общего собрания, опубликованного в газете «Поселок», №7-8, 1912 год
И вот здесь я впервые в жизни встретился с тем, что называется интригой умного человека, не останавливающегося ни перед какими средствами для достижения цели – всячески унизить и ошельмовать противника. На заседании Комитета Зубчанинов стал в оппозицию всех новых предложений Комитета, причем действовал не сам, а через Алёхина и Благовещенского. Вскоре, впрочем, Алёхин сделался полезным работником и продолжал руководить земельными насаждениями посёлка.
Зубчанинов тем временем воспользовался тем, что в его руках было газета «Посёлок» (он был редактором газеты) и через газету стал шельмовать все решения Комитета. Тогда Комитет потребовал отстранения его от редакции, но Зубчанинов категорически отказался. Комитет получил разрешение издавать новую газету – «Поселочная жизнь» – под моим редакторством. Таким образом газета «Посёлок» была лишена субсидии. Тогда Зубчанинов объявил подписку на свою газету, и несколько номеров выпустил параллельно с новой газетой. Так в посёлке появилось две газеты. Я решил своей газете не полемизировать с «Посёлком» и сделал сообщение, чтобы газета «Посёлок» выражает личные взгляды Зубчанинова и его сторонников. Поступок Зубчанинова, поместившего в своей газете ряд пасквилей, возмутил даже его сторонников. Подписчиков у него оказалось мало, и после 3-4 номеров газета «Посёлок» прекратила своё существование.
Осталась одна газета «Поселочная жизнь» под редакцией Ппредседателя Комитета.
Наконец, Зубчанинов выкинул ещё один трюк. Мной был уволен за воровство его ставленник, приказчик Баранов. Я на это имел полное право. И вот на витринах объявлений и в газете города Самары появились афиши, что с разрешения губернатора города Самара назначается собрание членов посёлка по вопросу о незаконном увольнении приказчика Баранова. Собрание было назначено вечером на будущий день, когда у меня в епархиальном училище было заседание педагогического совета, на котором я обязан был присутствовать. Поэтому на собрании, созванном помимо Комитета, присутствовали лишь мой заместитель и секретарь. Просьба отложить собрание до моего прихода было отвергнута, и когда я освободился от заседания и явился на собрание, то увидел такую картину: зал канцелярского клуба был полон, все сторонники Зубчанинова на лицо. Сторонники Комитета стушевались. Сам Зубчанинов выступал с обличением Комитета, причём представил Баранова, как необычайно пострадавшего овечку, которого хотят растерзать свирепые волки из чувства личной мести к прежнему Комитету, пригласившего Баранова.
Я приехал во время речи Благовещенского, красноречиво и красочно изображавшего вредную деятельность нового Комитета. Он меня не видел и заявил, что я испугался ответственности и не явился на собрание. В это время я вошел в президиум. Оратор несколько растерялся и скоро закончил своё выступление. Мне удалось собрать исчерпывающие факты виновности Баранова и пригласить свидетелей на это собрание. Настроение собравшихся было не в мою пользу. Речи выступавших взвинтили присутствующих, поэтому моё появление на трибуне было встречено возгласами: «Ему ничего говорить, пусть оправдается! Бедных всегда притесняют» и т.п. Я был очень взволнован – на карту ставилась моя честь и был общественный суд над первым началом моей общественной работы. Но у меня были убедительные данные и я не сомневался в победе. Моё выступление, как показал результат собрания, было очень удачным. Я бросил всякую дипломатию и стал называть вещи своими именами. Прежде всего, подверг критике самый созыв собрания помимо Комитета, без его ведома, с целью не дать ему подготовиться; специфический состав собрания, в котором участвуют лица, никогда не бывшие на наших собраниях; нежелание подождать главного обвиняемого и обливать помоями лиц, которым Общество доверило руководство работой, в том числе и самого Зубчанинова, имевшего возможность до собрания познакомиться с документами, имеющимися у меня за подписью самого Баранова. Выступление Баранова подтвердило правильность моих доводов. Общество выразило Комитету доверие. Наша победа была полной, партия Зубчанинова была не только разбита, но и дискредитирована.
Но борьба продолжалась вплоть до 1917 года, когда я уже ушёл из правления Комитета. Сторонники Зубчанинова старались ставить палки в колёса моей работе, не стеснялись никакими средствами. Особенно много мне испортил нервов «посёлочный соловей» Благовещенский, умевший красиво и остроумно говорить на собраниях.
Но всё же победа была на нашей стороне, и мы могли спокойно начать свою большую работу. Нужно было, с одной стороны привести в порядок расстроенные финансы Посёлка, а с другой – сохранить и продолжить те полезные начинания, которые, в широких масштабах, не считаясь со средствами, проводил Зубчанинов и его сторонники.
Финансовый вопрос был урегулирован продажей участков по оврагу, за оврагом и скотопрогонной дороге, отошедшей к Посёлку в виду её закрытия.
Бюджет свели без дефицита. Потом удалось в 2-х обществах взаимного кредита получить кредит на 40 тысяч рублей. Но всё же финансовое состояние было напряженным, и мне приходилось вести упорную борьбу за финансовое равновесие.
В посёлке был построен артезианский колодец, откуда бочками (15 копеек бочка) доставлялась вода для поливки насаждений, устроена плотина, вырыты колодцы. Все улицы ещё раньше были засажены деревьями; нужно было поддерживать эти насаждения, был открыт плодовый и цветочный питомник для снабжение посёлка посадочным материалом, расширен склад строительных материалов. Открыли библиотеку, детский сад, свой клуб с драмкружком, школу.
Зубчанинов тем временем воспользовался тем, что в его руках было газета «Посёлок» (он был редактором газеты) и через газету стал шельмовать все решения Комитета. Тогда Комитет потребовал отстранения его от редакции, но Зубчанинов категорически отказался. Комитет получил разрешение издавать новую газету – «Поселочная жизнь» – под моим редакторством. Таким образом газета «Посёлок» была лишена субсидии. Тогда Зубчанинов объявил подписку на свою газету, и несколько номеров выпустил параллельно с новой газетой. Так в посёлке появилось две газеты. Я решил своей газете не полемизировать с «Посёлком» и сделал сообщение, чтобы газета «Посёлок» выражает личные взгляды Зубчанинова и его сторонников. Поступок Зубчанинова, поместившего в своей газете ряд пасквилей, возмутил даже его сторонников. Подписчиков у него оказалось мало, и после 3-4 номеров газета «Посёлок» прекратила своё существование.
Осталась одна газета «Поселочная жизнь» под редакцией Ппредседателя Комитета.
Наконец, Зубчанинов выкинул ещё один трюк. Мной был уволен за воровство его ставленник, приказчик Баранов. Я на это имел полное право. И вот на витринах объявлений и в газете города Самары появились афиши, что с разрешения губернатора города Самара назначается собрание членов посёлка по вопросу о незаконном увольнении приказчика Баранова. Собрание было назначено вечером на будущий день, когда у меня в епархиальном училище было заседание педагогического совета, на котором я обязан был присутствовать. Поэтому на собрании, созванном помимо Комитета, присутствовали лишь мой заместитель и секретарь. Просьба отложить собрание до моего прихода было отвергнута, и когда я освободился от заседания и явился на собрание, то увидел такую картину: зал канцелярского клуба был полон, все сторонники Зубчанинова на лицо. Сторонники Комитета стушевались. Сам Зубчанинов выступал с обличением Комитета, причём представил Баранова, как необычайно пострадавшего овечку, которого хотят растерзать свирепые волки из чувства личной мести к прежнему Комитету, пригласившего Баранова.
Я приехал во время речи Благовещенского, красноречиво и красочно изображавшего вредную деятельность нового Комитета. Он меня не видел и заявил, что я испугался ответственности и не явился на собрание. В это время я вошел в президиум. Оратор несколько растерялся и скоро закончил своё выступление. Мне удалось собрать исчерпывающие факты виновности Баранова и пригласить свидетелей на это собрание. Настроение собравшихся было не в мою пользу. Речи выступавших взвинтили присутствующих, поэтому моё появление на трибуне было встречено возгласами: «Ему ничего говорить, пусть оправдается! Бедных всегда притесняют» и т.п. Я был очень взволнован – на карту ставилась моя честь и был общественный суд над первым началом моей общественной работы. Но у меня были убедительные данные и я не сомневался в победе. Моё выступление, как показал результат собрания, было очень удачным. Я бросил всякую дипломатию и стал называть вещи своими именами. Прежде всего, подверг критике самый созыв собрания помимо Комитета, без его ведома, с целью не дать ему подготовиться; специфический состав собрания, в котором участвуют лица, никогда не бывшие на наших собраниях; нежелание подождать главного обвиняемого и обливать помоями лиц, которым Общество доверило руководство работой, в том числе и самого Зубчанинова, имевшего возможность до собрания познакомиться с документами, имеющимися у меня за подписью самого Баранова. Выступление Баранова подтвердило правильность моих доводов. Общество выразило Комитету доверие. Наша победа была полной, партия Зубчанинова была не только разбита, но и дискредитирована.
Но борьба продолжалась вплоть до 1917 года, когда я уже ушёл из правления Комитета. Сторонники Зубчанинова старались ставить палки в колёса моей работе, не стеснялись никакими средствами. Особенно много мне испортил нервов «посёлочный соловей» Благовещенский, умевший красиво и остроумно говорить на собраниях.
Но всё же победа была на нашей стороне, и мы могли спокойно начать свою большую работу. Нужно было, с одной стороны привести в порядок расстроенные финансы Посёлка, а с другой – сохранить и продолжить те полезные начинания, которые, в широких масштабах, не считаясь со средствами, проводил Зубчанинов и его сторонники.
Финансовый вопрос был урегулирован продажей участков по оврагу, за оврагом и скотопрогонной дороге, отошедшей к Посёлку в виду её закрытия.
Бюджет свели без дефицита. Потом удалось в 2-х обществах взаимного кредита получить кредит на 40 тысяч рублей. Но всё же финансовое состояние было напряженным, и мне приходилось вести упорную борьбу за финансовое равновесие.
В посёлке был построен артезианский колодец, откуда бочками (15 копеек бочка) доставлялась вода для поливки насаждений, устроена плотина, вырыты колодцы. Все улицы ещё раньше были засажены деревьями; нужно было поддерживать эти насаждения, был открыт плодовый и цветочный питомник для снабжение посёлка посадочным материалом, расширен склад строительных материалов. Открыли библиотеку, детский сад, свой клуб с драмкружком, школу.
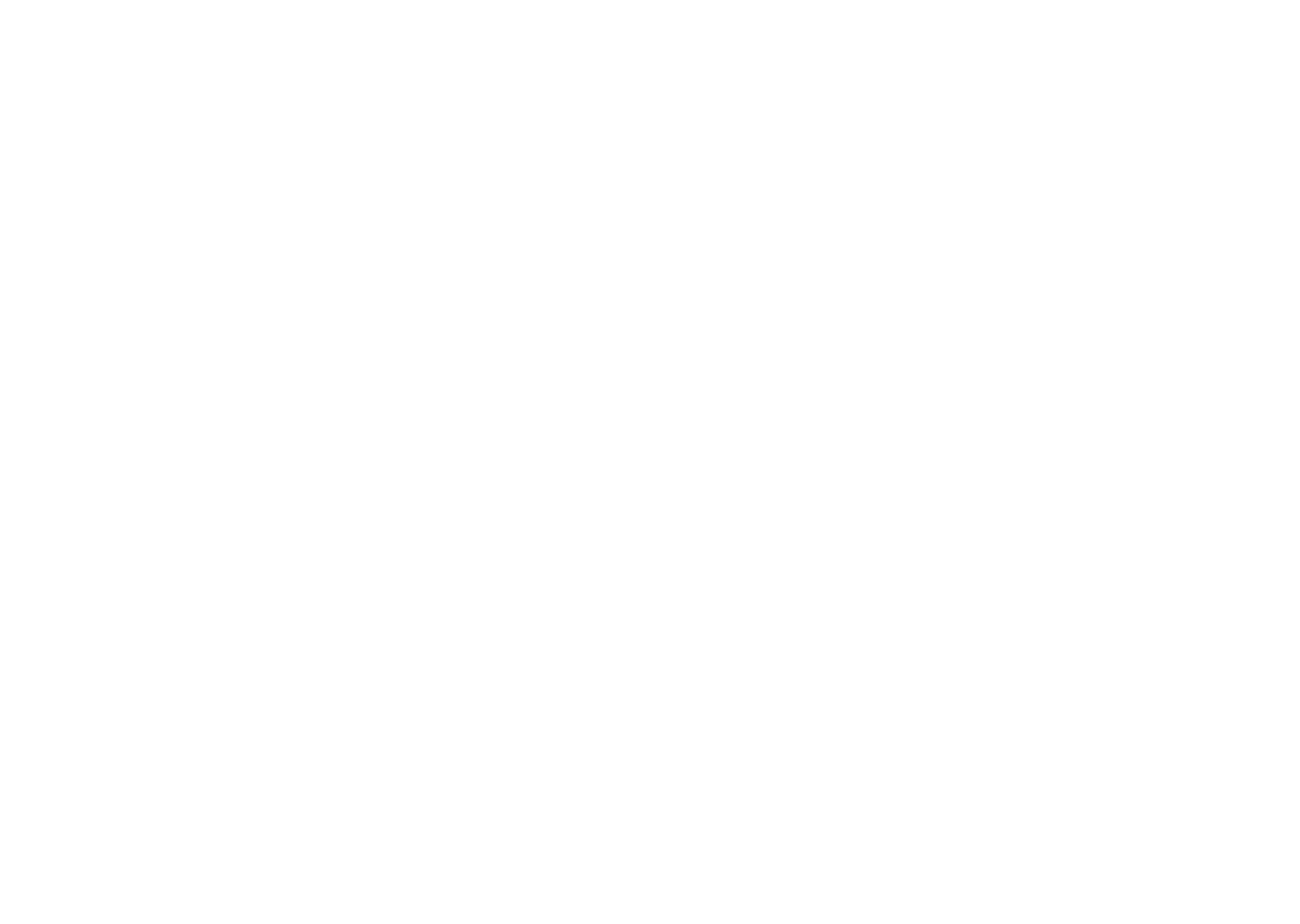
3 июня 1913 года. Открытие артезианского колодца в поселке Зубчаниновский. На трибуне в центре – Евгений Андреевич Зубчанинов (слева) и Александр Павлович Поспелов (справа). Фотограф А.П. Васильев
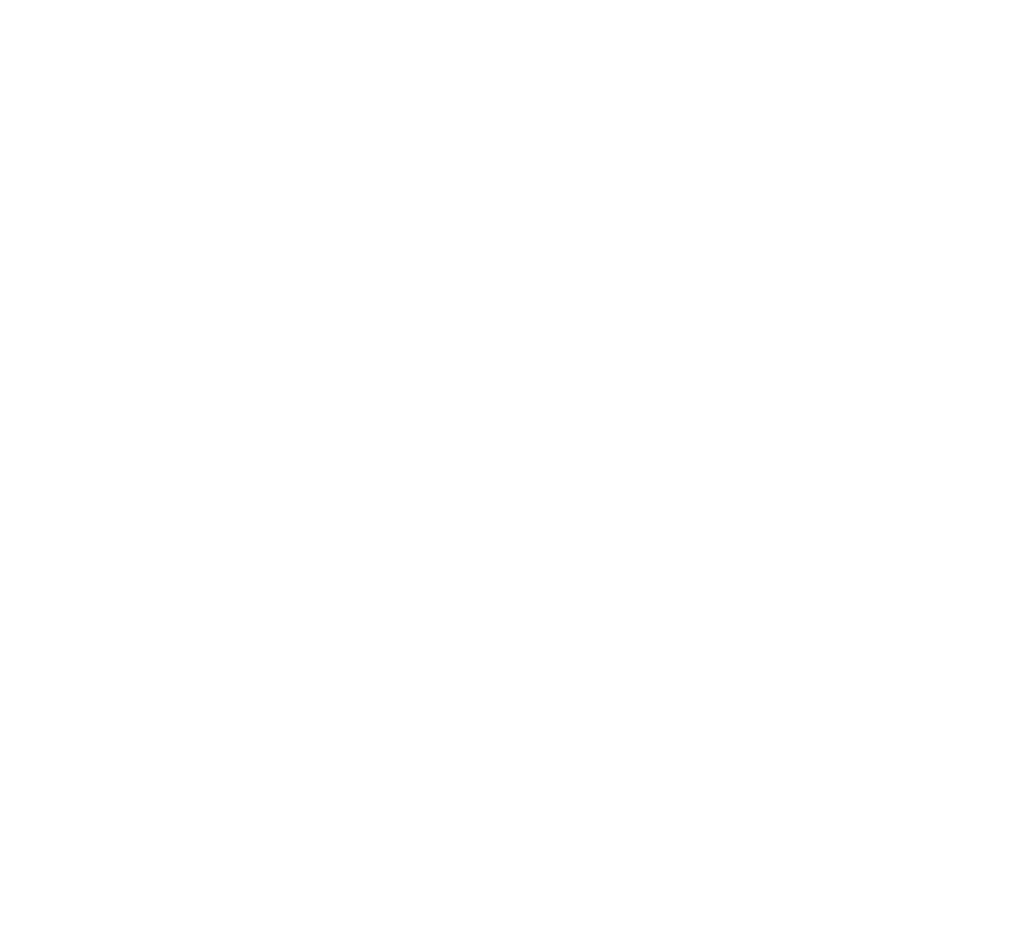
Статья из газеты «Поселочная жизнь», №21, 1913 год
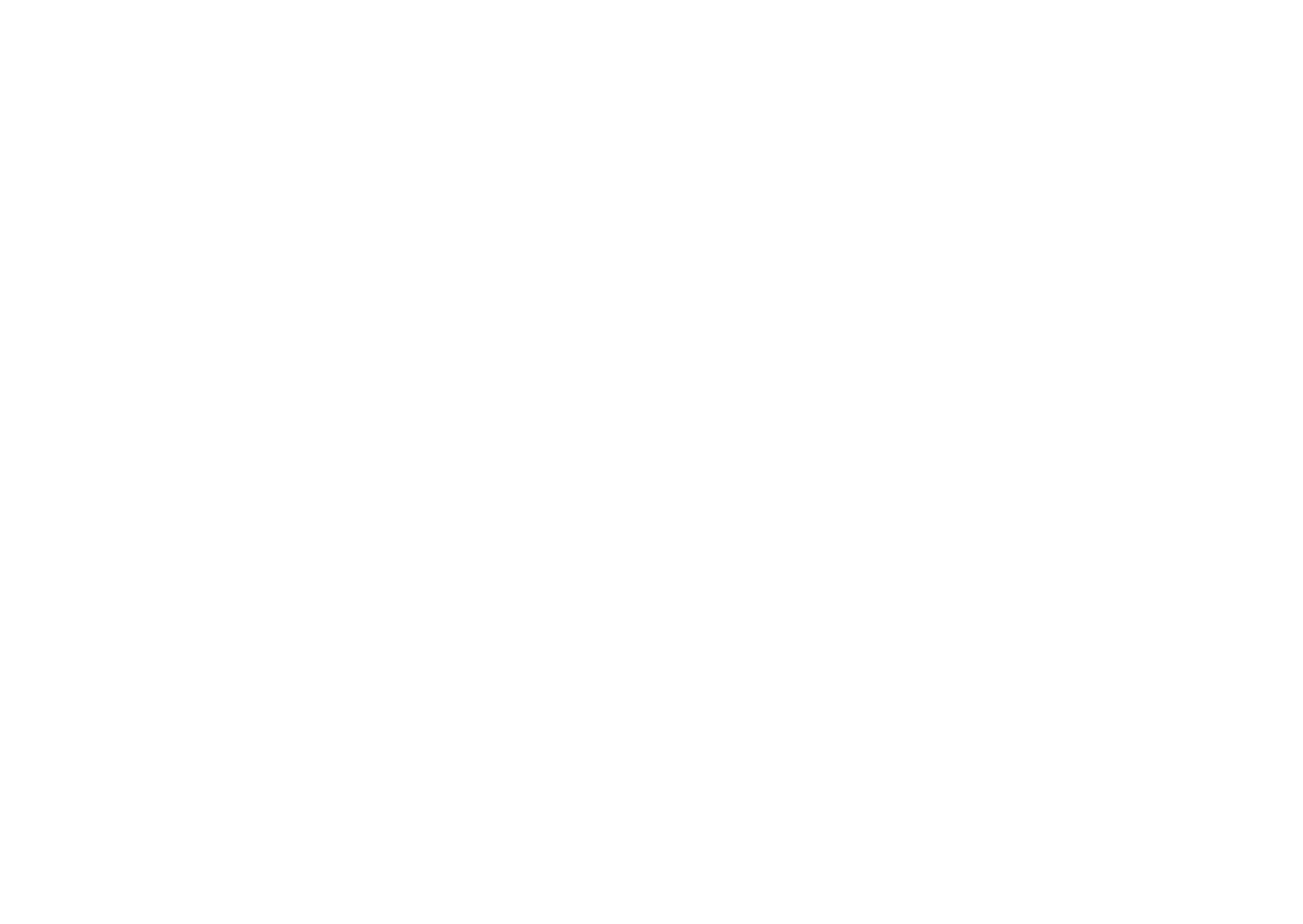
3 июня 1913 года. Открытие артезианского колодца в поселке Зубчаниновский. Фотограф А.П. Васильев
Посёлочники имели возможность через Комитет в кредит строить себе дома. Наладилось железнодорожное сообщение с Самарой, построили вокзал, в Посёлке стали останавливаться все пассажирские поезда и 4 специальных поезда в день. Уже стали мечтать об электрическом освещении, водопроводе, трамвае из Самары. Проекты на всё это были составлены и велись переговоры с соответствующими организациями. А так как посёлочники работали почти во всех предприятиях города Самары и были удивительными патриотами своего Посёлка, то везде наши проекты проходили сравнительно без больших затруднений.
Но… реализации планов помешала начавшаяся в 1914 году война с Германией, сорвавшая наши мечты о дальнейшем благоустройстве Поселка.
Хотя Поселок имел характер кооперативного товарищества, всё же вопросы кооперации мало кого интересовали. Сам я плохо разбирался в вопросах кооперативного товарищества, а мои сотрудники – того хуже. Большой толчок к развитию кооперативных идей в Посёлке дало мое участие на Втором всероссийском съезде кооператоров в городе Киеве в 1913 году, куда я был делегирован от Посёлка, а также посещение мной после съезда пригородных рабочих поселков «Весёлый» и «Ровный» под Харьковом. С ними мы завязали тесную связь путем переписки.
На Киевском съезде мне удалось удачно выступить с сообщением о нашем Поселке, сорвать дружные аплодисменты и провести резолюцию о материальной поддержке таких поселков в финансовой системе кооперации. На съезде я впервые познакомился с сущностью кооперативного движения, оно меня увлекло и я сделался активным и убежденным кооператором.
Журнал «Поселочная жизнь» получил характер кооперативного журнала, в нем печатались и теоретические статьи о кооперации. В Комитете я сделал несколько докладов о принципах кооперации. Вскоре была открыта своя кооперативная лавка, создана пожарная дружина, общество взаимопомощи, наш клуб стал культурным центром, открыли музей с широкой программы своей деятельности.
Мы мечтали о многом и многого достигли. Комитет нашёл рациональные формы для своей работы, осуществил на практике привлечение к работе актива. Весь Комитет разделился на комиссии, причем каждая комиссия к своей работе привлекала рядовых членов Посёлка по их специальности. Отказа помочь в работе Комитет обычно не встречал. Была комиссия финансовая, где работали бухгалтера разных самарских учреждений, строительная – с техниками и инженерами, юридическая – с юристами, членами суда, судьями, земских насаждений – с агрономами, культурная – с учителями, и т.д. Все комиссии работали не за страх, а за совесть, и совершенно бесплатно, затрачивая порой много времени.
Помещение Комитета всегда было полно посетителями. Заседания Комитета охотно посещались многими рядовыми поселочникми. Не было недостатка в сотрудниках газеты «Посёлочная жизнь». Жизнь в Посёлке кипела, я ушёл в неё с головой и отвлекся от педагогической работы, которой я уделял минимальное время.
Но… реализации планов помешала начавшаяся в 1914 году война с Германией, сорвавшая наши мечты о дальнейшем благоустройстве Поселка.
Хотя Поселок имел характер кооперативного товарищества, всё же вопросы кооперации мало кого интересовали. Сам я плохо разбирался в вопросах кооперативного товарищества, а мои сотрудники – того хуже. Большой толчок к развитию кооперативных идей в Посёлке дало мое участие на Втором всероссийском съезде кооператоров в городе Киеве в 1913 году, куда я был делегирован от Посёлка, а также посещение мной после съезда пригородных рабочих поселков «Весёлый» и «Ровный» под Харьковом. С ними мы завязали тесную связь путем переписки.
На Киевском съезде мне удалось удачно выступить с сообщением о нашем Поселке, сорвать дружные аплодисменты и провести резолюцию о материальной поддержке таких поселков в финансовой системе кооперации. На съезде я впервые познакомился с сущностью кооперативного движения, оно меня увлекло и я сделался активным и убежденным кооператором.
Журнал «Поселочная жизнь» получил характер кооперативного журнала, в нем печатались и теоретические статьи о кооперации. В Комитете я сделал несколько докладов о принципах кооперации. Вскоре была открыта своя кооперативная лавка, создана пожарная дружина, общество взаимопомощи, наш клуб стал культурным центром, открыли музей с широкой программы своей деятельности.
Мы мечтали о многом и многого достигли. Комитет нашёл рациональные формы для своей работы, осуществил на практике привлечение к работе актива. Весь Комитет разделился на комиссии, причем каждая комиссия к своей работе привлекала рядовых членов Посёлка по их специальности. Отказа помочь в работе Комитет обычно не встречал. Была комиссия финансовая, где работали бухгалтера разных самарских учреждений, строительная – с техниками и инженерами, юридическая – с юристами, членами суда, судьями, земских насаждений – с агрономами, культурная – с учителями, и т.д. Все комиссии работали не за страх, а за совесть, и совершенно бесплатно, затрачивая порой много времени.
Помещение Комитета всегда было полно посетителями. Заседания Комитета охотно посещались многими рядовыми поселочникми. Не было недостатка в сотрудниках газеты «Посёлочная жизнь». Жизнь в Посёлке кипела, я ушёл в неё с головой и отвлекся от педагогической работы, которой я уделял минимальное время.
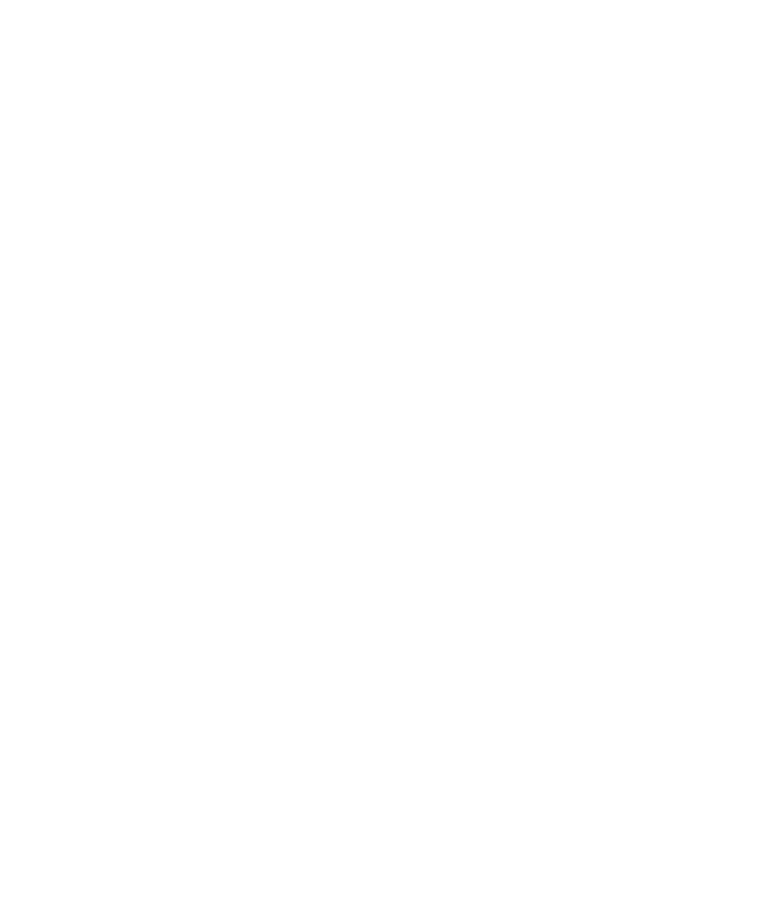
Статья из газеты «Поселочная жизнь», №35-36, 1913 год
Работа в Комитете, хотя и была трудной, но результаты были так радостны и осязаемы, что в ней я находил большое удовлетворение. Из актива Посёлка считаю нужным отметить Новикова Степана Павловича (железнодорожного техника, моего заместителя по строительству), Ширманова Константина Дмитриевича (техник), Баранова Павла Никифоровича (идеального секретаря), Суханова Сергея Михайловича (бухгалтер), врача Романского, судью Каменского, члена суда Фастрицкого, учителей Воскресенского, Кострикова, священника Сергиевского и многих других, фамилии которых я забыл. Несмотря на все разногласия и споры всё же посёлочники – это была дружная семья, спаянная общими интересами, глубоко преданная общему делу. Почти не было случая, чтобы посёлочники не оказали посильного содействия благоустройству своего Поселка и помощи от того учреждения, где они работали. Комитет почти ежедневно утверждал 10-15 планов построек, строго следя за тем, чтобы дома стояли по правой стороне участка и занимали вместе с надворными постройками не больше 1/3 участка. Везде закладывались фруктовые и ягодные сады и огороды, участки снимались в аренду для посадки картофеля. Посёлочники делились опытом, хвастались результатами своих трудов. Не даром была шутка при отходе поезда посёлочников – «40 минут разговора о картофеле». Увлечение было общим, не могло оно не коснуться и нашей семьи.
Уже в первый год мы засеяли участок картофелем и получили хороший урожай. Мне, как Председателю комитета, нужно было постоянно бывать в Посёлке, и не иметь своего хотя бы какого-нибудь дома было неловко. Часто меня спрашивали: «Почему вы, руководя Посёлком, сами себе ничего не строите?»
Положение мое было трагикомичное. Строиться было необходимо, а строить было не на что. У меня было 200 рублей долгу! На помощь пришли добрые люди.
Как-то в клубе за столом учитель Анфимов дал мне совет – строить в кредит – и научил, как можно строить, не имея в наличии ни копейки. Он обещал дать мне вексель на 500 рублей, который я могу реализовать в банке. В это время сосед, помещик Эдельсон, брал подряды на постройку домов. Я с ним познакомился, и он обещал построить мне дом за 2000 рублей с рассрочкой платежа на 2 года. Надо было дать задаток 500 рублей и 500 рублей после окончания постройки, а остальное – в течение 2 лет. Нужно было достать ещё 500 рублей. Я решил: как-нибудь «сколочу» по 50 рублей в месяц.
Дом был построен, один из лучших домов в Посёлке (план составил Ширманов). Платил я за него долго, до 1917 года. В 1913 году мы уже переехали жить в свой дом. Посадки помог сделать садовник Кочубей. Сад был очень хорошо распланирован, и я считал его одним из самых лучших в Посёлке. Здесь были аллеи декоративных растений, берёза, клён, пирамидальные тополя, лучшие сорта яблонь, груш, вишни, кустарники – малина, смородина всех сортов, крыжовник. Были беседки из сирени, красивые цветочные клумбы, много пришлось потрудиться. Особенно много работала Татьяна Павловна – наша няня. Моя жена Шура приучала к работе и детей с самого раннего возраста.
Вообще, жизнь в Посёлке имела большое воспитательное значение. Воздух в Посёлке был прекрасный, здоровый. Сад и огород давали плоды уже со второго года, причём в таком количестве, что хватало и нашей семье, и всем нашим знакомым. Жизнь в Посёлке в бытовом отношении была самой лучшей порой в моей жизни!
Уже в первый год мы засеяли участок картофелем и получили хороший урожай. Мне, как Председателю комитета, нужно было постоянно бывать в Посёлке, и не иметь своего хотя бы какого-нибудь дома было неловко. Часто меня спрашивали: «Почему вы, руководя Посёлком, сами себе ничего не строите?»
Положение мое было трагикомичное. Строиться было необходимо, а строить было не на что. У меня было 200 рублей долгу! На помощь пришли добрые люди.
Как-то в клубе за столом учитель Анфимов дал мне совет – строить в кредит – и научил, как можно строить, не имея в наличии ни копейки. Он обещал дать мне вексель на 500 рублей, который я могу реализовать в банке. В это время сосед, помещик Эдельсон, брал подряды на постройку домов. Я с ним познакомился, и он обещал построить мне дом за 2000 рублей с рассрочкой платежа на 2 года. Надо было дать задаток 500 рублей и 500 рублей после окончания постройки, а остальное – в течение 2 лет. Нужно было достать ещё 500 рублей. Я решил: как-нибудь «сколочу» по 50 рублей в месяц.
Дом был построен, один из лучших домов в Посёлке (план составил Ширманов). Платил я за него долго, до 1917 года. В 1913 году мы уже переехали жить в свой дом. Посадки помог сделать садовник Кочубей. Сад был очень хорошо распланирован, и я считал его одним из самых лучших в Посёлке. Здесь были аллеи декоративных растений, берёза, клён, пирамидальные тополя, лучшие сорта яблонь, груш, вишни, кустарники – малина, смородина всех сортов, крыжовник. Были беседки из сирени, красивые цветочные клумбы, много пришлось потрудиться. Особенно много работала Татьяна Павловна – наша няня. Моя жена Шура приучала к работе и детей с самого раннего возраста.
Вообще, жизнь в Посёлке имела большое воспитательное значение. Воздух в Посёлке был прекрасный, здоровый. Сад и огород давали плоды уже со второго года, причём в таком количестве, что хватало и нашей семье, и всем нашим знакомым. Жизнь в Посёлке в бытовом отношении была самой лучшей порой в моей жизни!
После революции Александр Павлович Поспелов организовал в Самаре Первую смешанную гимназию. С 1921 по 1929 год был организатором и заведующим 5-й опытной школой второй ступени.
Александр Павлович Поспелов с семьей проводил лето в Зубчаниновке вплоть до 1930 года, а потом продал дом на улице Льва Толстого и уехал из Самары сначала в Горький (Нижний Новгород), где он работал краевым инспектором-методистом при крайоно, а затем в Ленинград. С 1934 года работал заведующим учебно-методическим кабинетом и заведующим кафедрой русского языка в Ленинградском политехническом институте. Скончался 20 декабря 1950 года.
Воспоминания Александра Павловича Поспелова переписала и сохранила для потомков его дочь, Ольга Александровна Шиндер (Поспелова). Благодарим семью Шиндер (г. Санкт-Петербург) за предоставленную рукопись
Александр Павлович Поспелов с семьей проводил лето в Зубчаниновке вплоть до 1930 года, а потом продал дом на улице Льва Толстого и уехал из Самары сначала в Горький (Нижний Новгород), где он работал краевым инспектором-методистом при крайоно, а затем в Ленинград. С 1934 года работал заведующим учебно-методическим кабинетом и заведующим кафедрой русского языка в Ленинградском политехническом институте. Скончался 20 декабря 1950 года.
Воспоминания Александра Павловича Поспелова переписала и сохранила для потомков его дочь, Ольга Александровна Шиндер (Поспелова). Благодарим семью Шиндер (г. Санкт-Петербург) за предоставленную рукопись
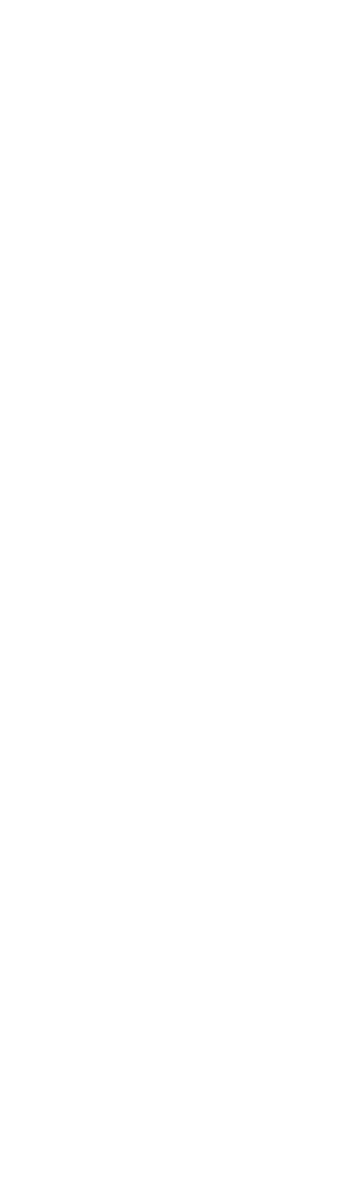
Газета «Политехник», №1, 6 января 1951 г.
ДРУГИЕ ПУБЛИКАЦИИ