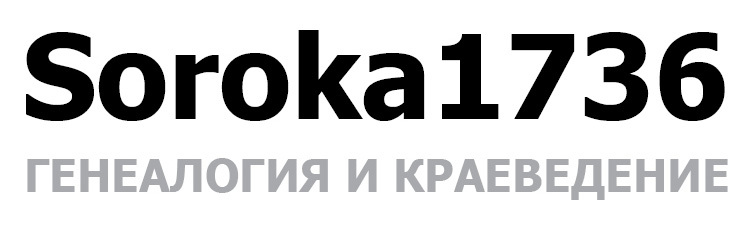Галина Адельсон-Вельская
июль 2025 года
Максим Григорьевич
Адельсон-Вельский и его родные
Адельсон-Вельский и его родные
Часть I. Частная жизнь самарских большевиков
Мне в жизни повезло. Благодаря моим родителям моё детство прошло в кругу необыкновенно талантливых людей. Это были музыканты, актёры и учёные. Общение с ними, наверное, можно назвать словами Горького — «Мои университеты». И этот водоворот, который происходил у нас дома, всегда возглавляла мама — замечательный музыкант, а главным магнитом, конечно, был мой отец. Вот он стоит на фотографии.
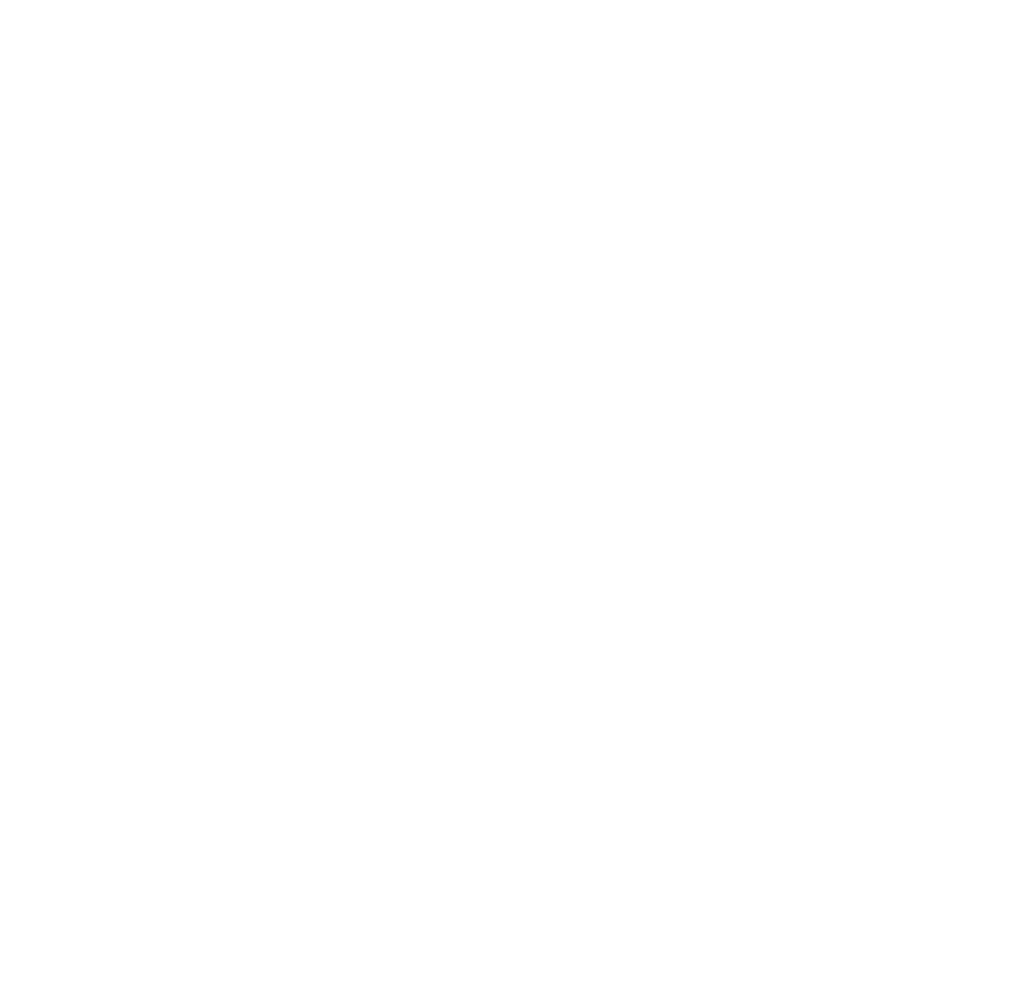
Справка: Георгий Максимович Адельсон-Вельский — советский математик, учёный, специалист в области информатики. Вместе с Евгением Ландисом в 1962 году изобрёл структуру данных, получившую название АВЛ-дерево. С 1957 года занимался проблемами искусственного интеллекта, в 1965 году руководил разработкой компьютерной шахматной программы в Институте теоретической и экспериментальной физики, которая победила американскую программу Kotok-McCarthy на первом шахматном матче между компьютерными программами; впоследствии на её основе была создана программа «Каисса», в 1974 году ставшая первым компьютерным чемпионом мира по шахматам на чемпионате в Стокгольме.
Конечно, из материала Википедии непонятно, что это был за человек. Но вот небольшое воспоминание о нём, написанное его коллегой:
«В середине 1970-х годов в МГУ проводились семинары Школы Александра Семёновича Кронрода. Это была первая Школа, из которой вышла целая плеяда замечательных ученых математиков и программистов.
На семинаре А.С. Кронрода в МГУ участвовали В.Л. Арлазаров, Г.М. Адельсон-Вельский, А.А. Леман, М.З. Розенфельд и многие другие сотрудники нашего коллектива и его ученики, а также приглашенные математики и программисты из разных коллективов и институтов.
На одном из таких семинаров выступал Анатолий Георгиевич Пантелеев — выдающийся программист, впоследствии разработавший расширение языка LISP. Он был простым и скромным, и все его звали «Толя», несмотря на разницу в возрасте с большинством из нас.
Семинар был посвящен задаче оптимального поиска в графе. После почти часовой полемики огромная доска большой аудитории была полностью исписана схемами и формулами, но ни Толе, ни всем присутствующим не удавалось найти решение. Было много новых идей и предложений, но решения отвергались одно за другим, пол доски стиралось и писались новые формулы.
И вот, когда семинар длился почти час, и всем уже казалось, что просвета нет, в задней двери наверху аудитории появился «запоздавший» ГМ. (Коллеги называли папу Гэм по его инициалам.)
Он шёл спокойной и расслабленной, но решительной походкой между рядами, раздавая поклоны всем, кто сидел у прохода слева и справа, с каждым здороваясь за руку, спускаясь всё ниже и ниже и приближаясь к сцене, как будто это был его выход на подиум. Наконец он приблизился к сцене, поднялся на неё, поднял голову и взглянул на доску, полностью исписанную Толиными схемами и формулами.
Каково же было удивление всего научного собрания, когда он, лишь взглянув на доску, тут же принялся стирать что-то, что было написано в одном из углов. При этом — по-видимому, чтобы его действия не отставали от хода мысли — он стирал не тряпкой, как это было принято, а рукой, и делал это очень быстро. После этого он взял мел и написал решение.
Когда он успел посматривать на доску в процессе своего «выхода на подиум», так и осталось загадкой, но факт есть факт: он один нашел единственное правильное решение, и на это у него ушло всего лишь несколько секунд!
У нас было не принято «петь» дифирамбы, но, думаю, в тот момент каждый про себя вспомнил одно и то же слово — «Гений»!
Надо сказать, что люди этой Школы были сильными и уверенными в себе, поэтому, несмотря на общий конфуз, никто не расстроился за себя, а наоборот, все, как будто посчитав это общим достижением, дружно встали и бурно приветствовали наше общее «Чудо» по имени Г.М. Адельсон-Вельский!
А.Д. Астахов
Сотрудник Отдела В.Л.Арлазарова в ИПУ
Из воспоминаний 09.03.2024».
Мой отец родился в Самаре 8 января 1922 года. И только сейчас я стала понемногу узнавать, что происходило там в это время. Странная штука возраст. В молодости мне совершенно не хотелось копаться в подробностях жизни родителей, а тем более дедушек и бабушек. Казалось, что главное — создать свой собственный мир, прожить жизнь по-своему. Сейчас, когда у меня уже свои внуки, мне страшно жаль, что я задавала так мало вопросов. Я рассматриваю фотографии в полуистлевших альбомах и пытаюсь понять, кто на них изображён.
От мамы я часто слышала фразу «адельсоновская порода», причём фраза эта имела явно негативную окраску. Я думаю, что негатив этот возникал из сочувствия к моему папе, ведь в возрасте 9 лет он пережил несколько трагических событий, и в них косвенно был виноват мой дед — Максим Григорьевич. Папа в своих письмах не раз касался этих событий. Вот один из таких фрагментов:
«Конечно, Сократ прав: не так уж важно, как устроен мир, надо понимать, что такое добро и зло, стараться делать добро. С самого раннего детства я глубоко переживал стремление быть хорошим, но почти всегда ощущал, что я делаю что-то плохое. Долгое время я чувствовал уверенность в том, что не так уж трудно отличить доброе от злого. При этом я был уверен, что коммунизм — это абсолютное добро. Помню мой энтузиазм от сообщений об успехах индустриализации и коллективизации в начале тридцатых годов, причем этот энтузиазм не могли погасить сообщения о смерти моего деда (маминого отца) в ссылке; о смерти сестры, хотя она меня настолько огорчила, что я придумал в утешение себе, что врачи нас обманули; о самоубийстве мамы (об этом не говорили дома, а сказали, что она уехала работать в автономную республику Ханты и Манси в Сибири, но во дворе я слышал другое)».
Три смерти подряд — матери, деда и сестры — и для взрослого человека тяжёлый удар, что же говорить о девятилетнем мальчике! Моя бабушка — Вера Николаевна Вельская (урожденная Никольская) покончила с собой, узнав об измене мужа. Сразу после её смерти отца — священника Николая Петровича Никольского (служившего в церкви села Державино, что в 60 км от города Бузулука), которого выпустили из тюрьмы после её многочисленных ходатайств, снова арестовали и расстреляли, а младшая дочь Неля (папина сестра) умерла от ревматизма. Вскоре после этого от ревматизма скончался и её второй сын — Иля, который был моложе папы на 2 года.
Всё в том же письме есть и такие размышления:
«Когда я узнал о смерти матери и понял, что виноваты мой отец и Зина, я увидел и другую сторону: они ведь полюбили друг друга и не были в этом виноваты. Добро или зло, что папа любит Зину? Я уговаривал себя, что это не есть зло. Любовь — это что-то, что приходит и уходит независимо от воли человека. Когда я думал о других, то находил это естественным, но в то же время давал себе клятву никогда не поступать так, как поступил мой отец. В то же время я решил, что полюбить и не давать ходу этому чувству — нехорошо (я не мог сказать, что это зло, но не мог полностью одобрить это), что полюбить другую и не сказать об этом старой любви — неправильно, что изменять в тайне от жены — абсолютное зло. Я был очень удивлен, услышав от женщин, что гораздо большее зло, если жена об этом знает. В общем, я увидел, что никакого удовлетворительного решения нет, если только не владеть своими чувствами настолько, что запретить себе любить другую. Однако жизнь показала, что это невозможно. Так я впервые узнал про область человеческих отношений, где попытки определить, что есть добро и что зло, не ведут ни к чему».
Трудно сказать, чувствовал ли папа это тогда, или это его более поздние размышления. Во всяком случае, его желание оправдать своего отца помогло мне откинуть предвзятость в отношении к деду и попытаться познакомиться с ним. Из моих воспоминаний о нём наиболее ярко помнится сцена, когда мы с ним встретились на лестнице его дома. Это был 1970 год. Я выходила из его квартиры, а он возвращался домой. Когда дедушка узнал, что я отправляюсь в синагогу на празднование «Симхастойры», он дико рассмеялся и несколько раз повторил: «Я с партсобрания, а она в синагогу!» Только сейчас я начинаю понимать, что же его так сильно рассмешило!
У меня часто возникает ощущение, что за мою жизнь колесо истории сделало полный круг. Правда у меня этот факт вызывает грустные мысли. Максим Григорьевич, вероятно, почувствовал то же самое, и это ему показалось смешным. Ведь в 1907 году в возрасте 18 лет он был членом ССРП («Сионистско-социалистической рабочей партии»), которая считала главной задачей еврейского пролетариата борьбу за создание еврейского государства в Палестине или временно на какой-либо другой территории, где евреи составляли бы большинство и жили бы компактно.
И вот сегодня я нахожусь на территории такого государства и пытаюсь узнать подробности о жизни своего деда. Почему я так мало его спрашивала тогда? Почему он ни о чем не пытался мне рассказать? Об этом можно только догадываться.
Итак! Мой дед — Максим Григорьевич Адельсон-Вельский родился в 1889 году на территории нынешней Белоруссии. О его детстве мне ничего неизвестно. А вот что я знаю о его семье: родителей звали Герш Моисеевич и Дора Мееровна Адельсон, у них было семеро детей: мой дед Максим Григорьевич (Гершевич); Абрам (1880 г.р.); Лея (в семье её называли Лизой, 1887–1942), о ней расскажу подробнее дальше; Давид (не знаю даты его рождения) — погиб в Варшавском гетто; Софья (настоящее имя Сара, по мужу Рабинович, 1884–1962) с 1915 года была связана с большевиками, входила в состав городского комитета партии, после 1917 года выполняла ответственную партийную работу в Самаре, затем в Ташкенте, Тбилиси и Москве; Циля родилась в 1893 году; Ева — в 1897 году. Она также проживала в Самаре с 1915 по 1923 год и была связана с большевиками.
«В середине 1970-х годов в МГУ проводились семинары Школы Александра Семёновича Кронрода. Это была первая Школа, из которой вышла целая плеяда замечательных ученых математиков и программистов.
На семинаре А.С. Кронрода в МГУ участвовали В.Л. Арлазаров, Г.М. Адельсон-Вельский, А.А. Леман, М.З. Розенфельд и многие другие сотрудники нашего коллектива и его ученики, а также приглашенные математики и программисты из разных коллективов и институтов.
На одном из таких семинаров выступал Анатолий Георгиевич Пантелеев — выдающийся программист, впоследствии разработавший расширение языка LISP. Он был простым и скромным, и все его звали «Толя», несмотря на разницу в возрасте с большинством из нас.
Семинар был посвящен задаче оптимального поиска в графе. После почти часовой полемики огромная доска большой аудитории была полностью исписана схемами и формулами, но ни Толе, ни всем присутствующим не удавалось найти решение. Было много новых идей и предложений, но решения отвергались одно за другим, пол доски стиралось и писались новые формулы.
И вот, когда семинар длился почти час, и всем уже казалось, что просвета нет, в задней двери наверху аудитории появился «запоздавший» ГМ. (Коллеги называли папу Гэм по его инициалам.)
Он шёл спокойной и расслабленной, но решительной походкой между рядами, раздавая поклоны всем, кто сидел у прохода слева и справа, с каждым здороваясь за руку, спускаясь всё ниже и ниже и приближаясь к сцене, как будто это был его выход на подиум. Наконец он приблизился к сцене, поднялся на неё, поднял голову и взглянул на доску, полностью исписанную Толиными схемами и формулами.
Каково же было удивление всего научного собрания, когда он, лишь взглянув на доску, тут же принялся стирать что-то, что было написано в одном из углов. При этом — по-видимому, чтобы его действия не отставали от хода мысли — он стирал не тряпкой, как это было принято, а рукой, и делал это очень быстро. После этого он взял мел и написал решение.
Когда он успел посматривать на доску в процессе своего «выхода на подиум», так и осталось загадкой, но факт есть факт: он один нашел единственное правильное решение, и на это у него ушло всего лишь несколько секунд!
У нас было не принято «петь» дифирамбы, но, думаю, в тот момент каждый про себя вспомнил одно и то же слово — «Гений»!
Надо сказать, что люди этой Школы были сильными и уверенными в себе, поэтому, несмотря на общий конфуз, никто не расстроился за себя, а наоборот, все, как будто посчитав это общим достижением, дружно встали и бурно приветствовали наше общее «Чудо» по имени Г.М. Адельсон-Вельский!
А.Д. Астахов
Сотрудник Отдела В.Л.Арлазарова в ИПУ
Из воспоминаний 09.03.2024».
Мой отец родился в Самаре 8 января 1922 года. И только сейчас я стала понемногу узнавать, что происходило там в это время. Странная штука возраст. В молодости мне совершенно не хотелось копаться в подробностях жизни родителей, а тем более дедушек и бабушек. Казалось, что главное — создать свой собственный мир, прожить жизнь по-своему. Сейчас, когда у меня уже свои внуки, мне страшно жаль, что я задавала так мало вопросов. Я рассматриваю фотографии в полуистлевших альбомах и пытаюсь понять, кто на них изображён.
От мамы я часто слышала фразу «адельсоновская порода», причём фраза эта имела явно негативную окраску. Я думаю, что негатив этот возникал из сочувствия к моему папе, ведь в возрасте 9 лет он пережил несколько трагических событий, и в них косвенно был виноват мой дед — Максим Григорьевич. Папа в своих письмах не раз касался этих событий. Вот один из таких фрагментов:
«Конечно, Сократ прав: не так уж важно, как устроен мир, надо понимать, что такое добро и зло, стараться делать добро. С самого раннего детства я глубоко переживал стремление быть хорошим, но почти всегда ощущал, что я делаю что-то плохое. Долгое время я чувствовал уверенность в том, что не так уж трудно отличить доброе от злого. При этом я был уверен, что коммунизм — это абсолютное добро. Помню мой энтузиазм от сообщений об успехах индустриализации и коллективизации в начале тридцатых годов, причем этот энтузиазм не могли погасить сообщения о смерти моего деда (маминого отца) в ссылке; о смерти сестры, хотя она меня настолько огорчила, что я придумал в утешение себе, что врачи нас обманули; о самоубийстве мамы (об этом не говорили дома, а сказали, что она уехала работать в автономную республику Ханты и Манси в Сибири, но во дворе я слышал другое)».
Три смерти подряд — матери, деда и сестры — и для взрослого человека тяжёлый удар, что же говорить о девятилетнем мальчике! Моя бабушка — Вера Николаевна Вельская (урожденная Никольская) покончила с собой, узнав об измене мужа. Сразу после её смерти отца — священника Николая Петровича Никольского (служившего в церкви села Державино, что в 60 км от города Бузулука), которого выпустили из тюрьмы после её многочисленных ходатайств, снова арестовали и расстреляли, а младшая дочь Неля (папина сестра) умерла от ревматизма. Вскоре после этого от ревматизма скончался и её второй сын — Иля, который был моложе папы на 2 года.
Всё в том же письме есть и такие размышления:
«Когда я узнал о смерти матери и понял, что виноваты мой отец и Зина, я увидел и другую сторону: они ведь полюбили друг друга и не были в этом виноваты. Добро или зло, что папа любит Зину? Я уговаривал себя, что это не есть зло. Любовь — это что-то, что приходит и уходит независимо от воли человека. Когда я думал о других, то находил это естественным, но в то же время давал себе клятву никогда не поступать так, как поступил мой отец. В то же время я решил, что полюбить и не давать ходу этому чувству — нехорошо (я не мог сказать, что это зло, но не мог полностью одобрить это), что полюбить другую и не сказать об этом старой любви — неправильно, что изменять в тайне от жены — абсолютное зло. Я был очень удивлен, услышав от женщин, что гораздо большее зло, если жена об этом знает. В общем, я увидел, что никакого удовлетворительного решения нет, если только не владеть своими чувствами настолько, что запретить себе любить другую. Однако жизнь показала, что это невозможно. Так я впервые узнал про область человеческих отношений, где попытки определить, что есть добро и что зло, не ведут ни к чему».
Трудно сказать, чувствовал ли папа это тогда, или это его более поздние размышления. Во всяком случае, его желание оправдать своего отца помогло мне откинуть предвзятость в отношении к деду и попытаться познакомиться с ним. Из моих воспоминаний о нём наиболее ярко помнится сцена, когда мы с ним встретились на лестнице его дома. Это был 1970 год. Я выходила из его квартиры, а он возвращался домой. Когда дедушка узнал, что я отправляюсь в синагогу на празднование «Симхастойры», он дико рассмеялся и несколько раз повторил: «Я с партсобрания, а она в синагогу!» Только сейчас я начинаю понимать, что же его так сильно рассмешило!
У меня часто возникает ощущение, что за мою жизнь колесо истории сделало полный круг. Правда у меня этот факт вызывает грустные мысли. Максим Григорьевич, вероятно, почувствовал то же самое, и это ему показалось смешным. Ведь в 1907 году в возрасте 18 лет он был членом ССРП («Сионистско-социалистической рабочей партии»), которая считала главной задачей еврейского пролетариата борьбу за создание еврейского государства в Палестине или временно на какой-либо другой территории, где евреи составляли бы большинство и жили бы компактно.
И вот сегодня я нахожусь на территории такого государства и пытаюсь узнать подробности о жизни своего деда. Почему я так мало его спрашивала тогда? Почему он ни о чем не пытался мне рассказать? Об этом можно только догадываться.
Итак! Мой дед — Максим Григорьевич Адельсон-Вельский родился в 1889 году на территории нынешней Белоруссии. О его детстве мне ничего неизвестно. А вот что я знаю о его семье: родителей звали Герш Моисеевич и Дора Мееровна Адельсон, у них было семеро детей: мой дед Максим Григорьевич (Гершевич); Абрам (1880 г.р.); Лея (в семье её называли Лизой, 1887–1942), о ней расскажу подробнее дальше; Давид (не знаю даты его рождения) — погиб в Варшавском гетто; Софья (настоящее имя Сара, по мужу Рабинович, 1884–1962) с 1915 года была связана с большевиками, входила в состав городского комитета партии, после 1917 года выполняла ответственную партийную работу в Самаре, затем в Ташкенте, Тбилиси и Москве; Циля родилась в 1893 году; Ева — в 1897 году. Она также проживала в Самаре с 1915 по 1923 год и была связана с большевиками.
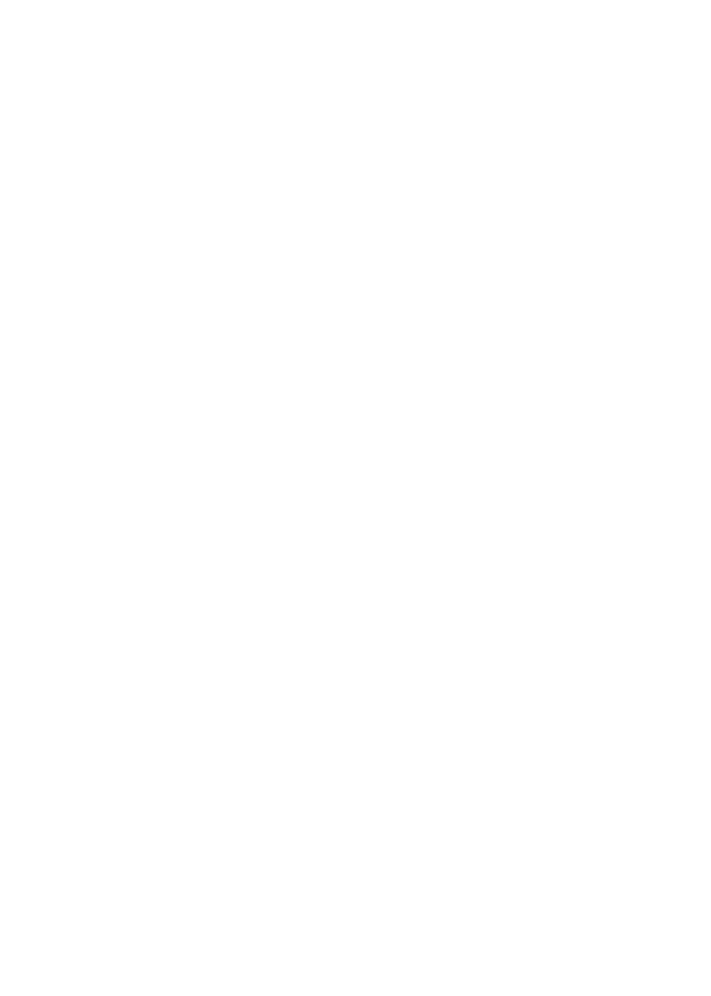
Герш и Дора Адельсон
У Герша был брат Яков, с которым они, вероятно, поддерживали близкие отношения, так как его дочь Надежда общалась с моим папой, а сын Абрам общался с дедом, и в семейном архиве сохранилось фото Якова с сыновьями Абрамом и Солей. Этот вывод я сделала, получив от внука Соли его фотографию. На индивидуальных фото слева Абрам, справа — Соля.
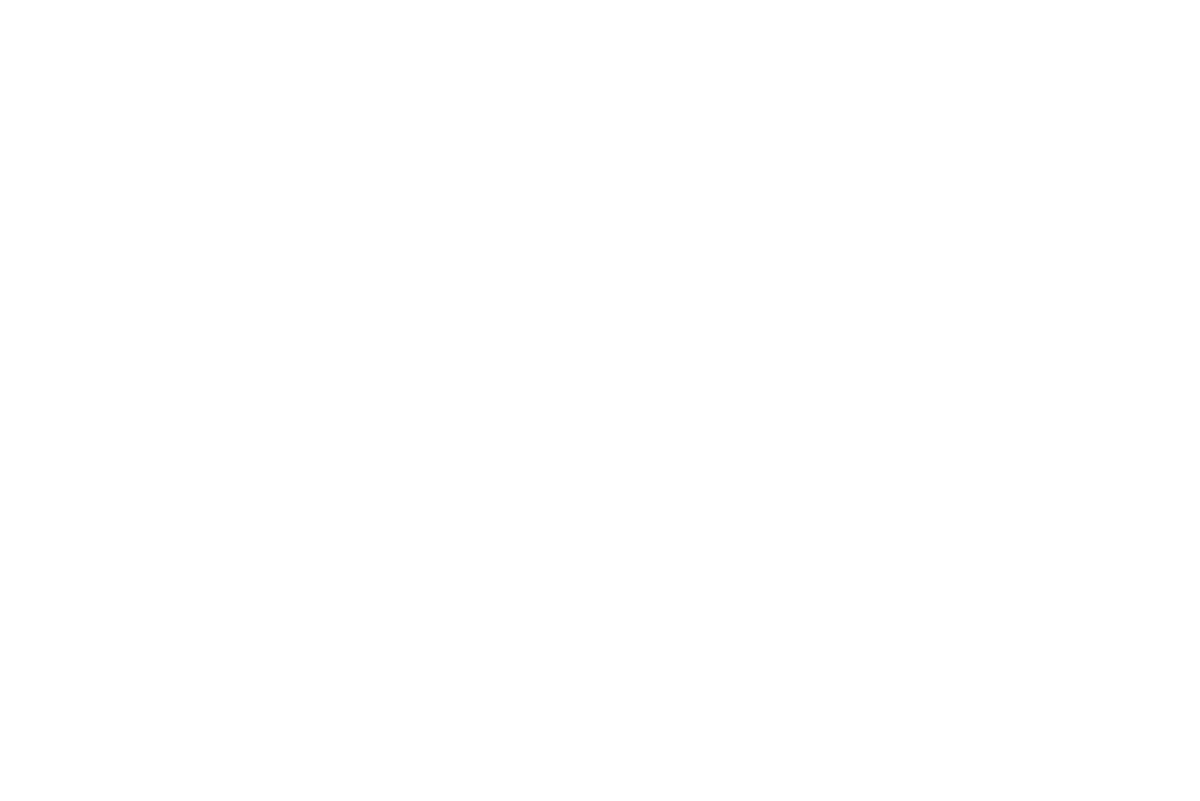
Яков Адельсон с сыновьями Абрамом и Солей
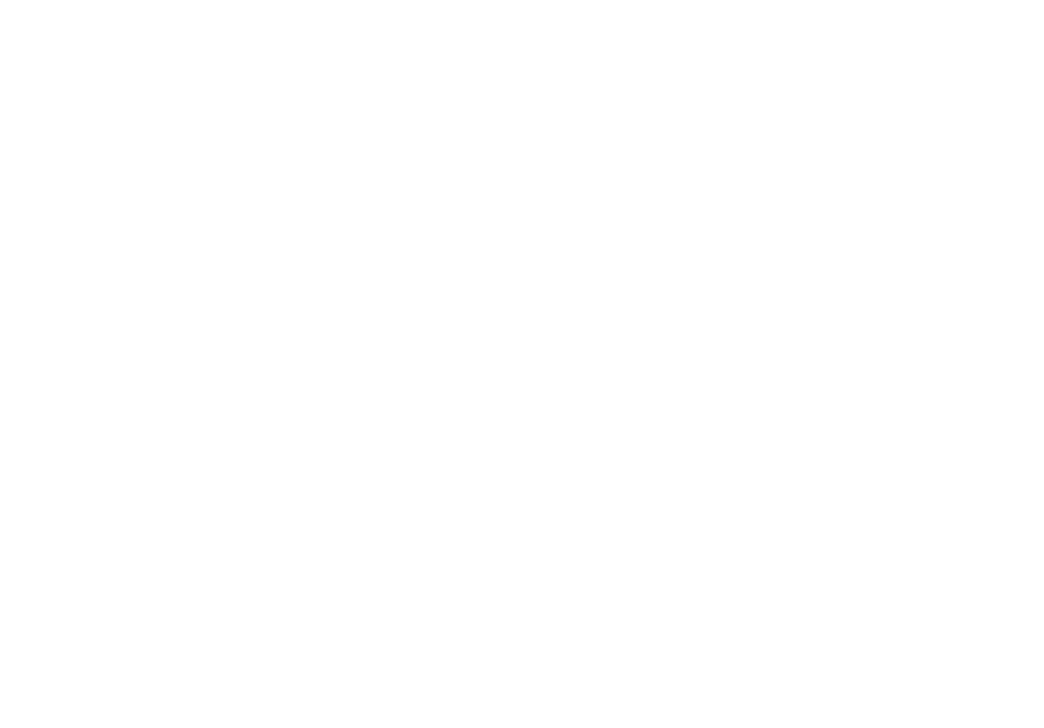
Абрам и Соля Адельсон
Были у Якова еще дети – Сара 1882 г.р , которая эмигрировала в США в 1902 г. вместе с Борухом Адельсон. Скорее всего он был её братом. Во время хрущевской оттепели Сара приезжала в Россию и пыталась встретиться с Максимом Григорьевичем, но он отказался.
Я знаю, что у Якова была еще дочь Надежда, о которой мне стало известно от её внука Влада Толубаева, живущего в Израиле. Бо́льшую часть того, о чем я пишу, мне удалось узнать только сейчас. Папа о своей семье и родственниках по линии отца рассказывал мало. Это не мешало ему помогать своим сводным братьям (сыновьям второй жены дедушки) Иле и Алику и своей сводной сестре Неле.
По семейной легенде совпадения имён неслучайны. После смерти папиных родных брата и сестры Зина пообещала родить новых Илю и Нелю, и родила. В семье деда сохранялась традиция жить единым кланом. Помню его квартиру в Столешниковом переулке, в которой всё время кто-то жил в маленькой комнате. Сёстры — Ева, Циля и Софья, Нюра (дочь Цили) с сыном Алешей. Из детских воспоминаний ярко помнится огромный алюминиевый таз с пирожками, которые готовились Зиной на все семейные торжества, и письменный стол деда с маленькими деревянными волчками. Ему удалось избежать судьбы своих соратников — большевиков, которые в лучшем случае отбывали ссылку, а в основном были расстреляны. В какой-то момент он тихо ушел в тень и работал в инвалидной артели, раскрашивая эти самые волчки. Иногда он дарил мне какой-нибудь из них. Напоминали ли они ему дрейдл (или свивон на иврите), в который играют на Хануку в еврейских семьях, я не знаю, но мне это кажется очень символичным.
Мои поиски информации о дедушке сразу начались с того, что я узнала о существовании у него ещё одной сестры — Лизы, которую я никогда не видела. Когда же мне попалась фотография сестер, я опознала на ней только Нюру, дочь Софьи. Позже, когда внук Нюры показал мне её альбом, удалось идентифицировать всех. Слева направо — Лея, Нюра, Ева и Циля.
Я знаю, что у Якова была еще дочь Надежда, о которой мне стало известно от её внука Влада Толубаева, живущего в Израиле. Бо́льшую часть того, о чем я пишу, мне удалось узнать только сейчас. Папа о своей семье и родственниках по линии отца рассказывал мало. Это не мешало ему помогать своим сводным братьям (сыновьям второй жены дедушки) Иле и Алику и своей сводной сестре Неле.
По семейной легенде совпадения имён неслучайны. После смерти папиных родных брата и сестры Зина пообещала родить новых Илю и Нелю, и родила. В семье деда сохранялась традиция жить единым кланом. Помню его квартиру в Столешниковом переулке, в которой всё время кто-то жил в маленькой комнате. Сёстры — Ева, Циля и Софья, Нюра (дочь Цили) с сыном Алешей. Из детских воспоминаний ярко помнится огромный алюминиевый таз с пирожками, которые готовились Зиной на все семейные торжества, и письменный стол деда с маленькими деревянными волчками. Ему удалось избежать судьбы своих соратников — большевиков, которые в лучшем случае отбывали ссылку, а в основном были расстреляны. В какой-то момент он тихо ушел в тень и работал в инвалидной артели, раскрашивая эти самые волчки. Иногда он дарил мне какой-нибудь из них. Напоминали ли они ему дрейдл (или свивон на иврите), в который играют на Хануку в еврейских семьях, я не знаю, но мне это кажется очень символичным.
Мои поиски информации о дедушке сразу начались с того, что я узнала о существовании у него ещё одной сестры — Лизы, которую я никогда не видела. Когда же мне попалась фотография сестер, я опознала на ней только Нюру, дочь Софьи. Позже, когда внук Нюры показал мне её альбом, удалось идентифицировать всех. Слева направо — Лея, Нюра, Ева и Циля.
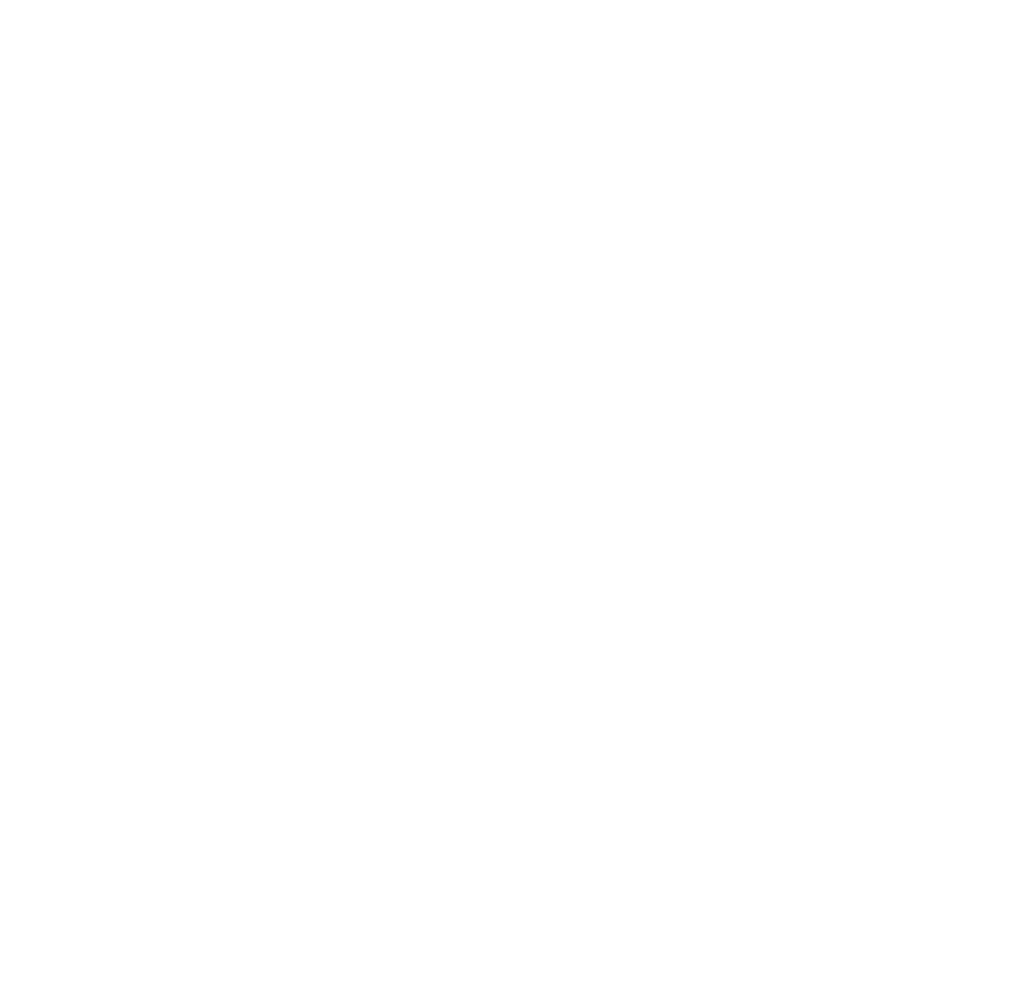
Лея, Нюра, Ева и Циля Адельсон
Эпопея с поисками Лизы могла бы продолжаться долго, если бы не подсказка двоюродной сестры Кати: «Лиза написала книгу «Поезд смерти»». С этой книги началось моё путешествие в Самару времен революции и гражданской войны. Строго говоря, это не книга, а дневник, который вела дедушкина сестра, когда её вместе с другими заключёнными везли из Самары на Дальний Восток в арестантском эшелоне.
В предисловии было написано «Зальцман Лия Григорьевна (1877–1943) — врач, член КПСС с 1918 года. В конце 1917 года, когда самарские отряды Красной гвардии вели борьбу против атамана Дутова, захватившего власть в Оренбурге, она возглавляла полевой санитарный отряд на фронте. Во время обороны Самары от мятежного чехословацкого корпуса Зальцман руководила санитарной службой советских отрядов. После возвращения с Дальнего Востока, куда она была увезена белогвардейцами в качестве заключённой, была на руководящей работе в органах здравоохранения на Северном Кавказе и в Москве». Присутствовала там и её фотография, которая помогла определить, что рядом с Нюрой стоит именно она.
Книгу издавали много раз, и в некоторых изданиях фамилия автора — Зальцман-Адельсон. Судьба Леи-Лизы была трагичной. Не так много информации мне удалось о ней найти. Пока не найдены никакие источники, рассказывающие о её работе на Северном Кавказе. Удалось найти упоминание о том, что она была главным врачом амбулатории (что-то вроде поликлиники) в Москве на Сущёвке и жила на Тверской улице в 1928 году. По рассказам моих двоюродных сестёр, свои дни она закончила в сумасшедшем доме, никого не помнила и не узнавала.
Судя по фамилии Зальцман, Лея была замужем. В семейном архиве даже присутствует фотография, на которой она изображена вместе с какой-то молодой семьей с двумя детьми. Но этих людей опознать мне пока не удалось.
В предисловии было написано «Зальцман Лия Григорьевна (1877–1943) — врач, член КПСС с 1918 года. В конце 1917 года, когда самарские отряды Красной гвардии вели борьбу против атамана Дутова, захватившего власть в Оренбурге, она возглавляла полевой санитарный отряд на фронте. Во время обороны Самары от мятежного чехословацкого корпуса Зальцман руководила санитарной службой советских отрядов. После возвращения с Дальнего Востока, куда она была увезена белогвардейцами в качестве заключённой, была на руководящей работе в органах здравоохранения на Северном Кавказе и в Москве». Присутствовала там и её фотография, которая помогла определить, что рядом с Нюрой стоит именно она.
Книгу издавали много раз, и в некоторых изданиях фамилия автора — Зальцман-Адельсон. Судьба Леи-Лизы была трагичной. Не так много информации мне удалось о ней найти. Пока не найдены никакие источники, рассказывающие о её работе на Северном Кавказе. Удалось найти упоминание о том, что она была главным врачом амбулатории (что-то вроде поликлиники) в Москве на Сущёвке и жила на Тверской улице в 1928 году. По рассказам моих двоюродных сестёр, свои дни она закончила в сумасшедшем доме, никого не помнила и не узнавала.
Судя по фамилии Зальцман, Лея была замужем. В семейном архиве даже присутствует фотография, на которой она изображена вместе с какой-то молодой семьей с двумя детьми. Но этих людей опознать мне пока не удалось.
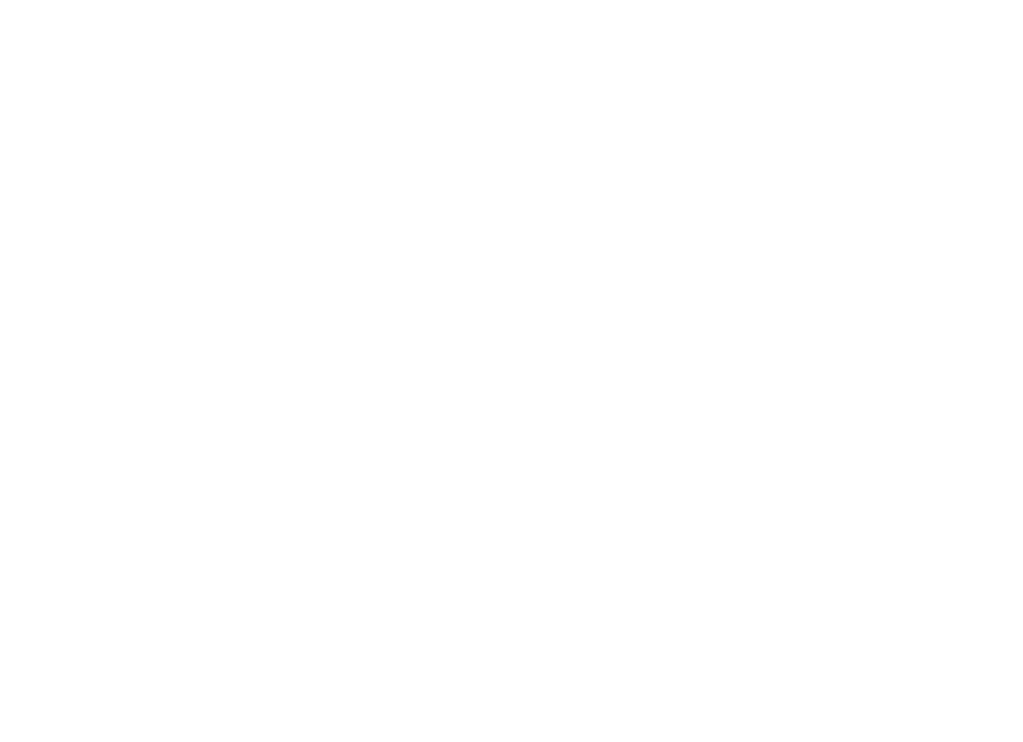
Лея Зальцман с неизвестными
Зато в процессе поиска связи между Исидором Фрих-Харом и дедушкиной сестрой Евой удалось найти в интернете фотографию самарского лазарета № 11, который служил приемным пунктом-распределителем для раненых солдат, прибывающих в Самару на лечение. Эту фотографию и фото Леи я поместила в главе об Исидоре.
Фотография 11-го лазарета — единственная, где дед присутствует вместе со своими сёстрами. И, фактически, самая ранняя его фотография из всех имеющихся. Ему на ней 26 лет. На других фотографиях он с коллегами, а на тех фотографиях, где запечатлены Софья и Ева с Валерианом Куйбышевым и Андреем Бубновым, дедушки нет. Возможно, в этом проявилась его осторожность по отношению к своим родным? Он не хотел лишний раз «светиться» рядом с ними? То, что он умел стать незаметным, подтверждается и другими фактами.
Например, в стенограмме доклада В. Куйбышева Н.И. Подвойскому об организации обороны Самары от 19 июня 1918 года есть такой текст: «Из более заметной публики… неизвестна судьба редактора «Известий» Адельсон». Или тем фактом, что он не попал в поле зрения полиции в 1916 году, когда был арестован Филипп Рабинович, муж Софьи Адельсон, в семье которых он жил.
Вообще квартирка была та ещё! Филипп (на то время меньшевик), Софья (состояла в Бунде), дед — член сионистской социалистической рабочей партии, а в соседях у них: Франциск Венцек и его жена Серафима Дерябина, профессиональные революционеры, члены РСДРП. В воспоминаниях Куйбышева рассказывается об обыске осенью 1916 года. Дед тогда успел незаметно исчезнуть, а вот Филиппа и Бубнова арестовали.
Очевидно, фотография, которая есть у нас в архиве и в архиве семьи Куйбышевых, сделана в доме, где жили мои родственники. Тут надо отметить, что родственница Баси Василевской, одной из активных членов РСДРП того времени, рассказывала, что брат Марии Бешенковской был фотографом и, скорее всего, именно он сделал эти фотографии). Верхний ряд — слева направо Софья Рабинович, Валериан Куйбышев, Ева Адельсон. Нижний ряд: (Дерябина?), Филипп Рабинович, Прасковья (Пана) Стяжкина (гражданская жена В. Куйбышева).
Фотография 11-го лазарета — единственная, где дед присутствует вместе со своими сёстрами. И, фактически, самая ранняя его фотография из всех имеющихся. Ему на ней 26 лет. На других фотографиях он с коллегами, а на тех фотографиях, где запечатлены Софья и Ева с Валерианом Куйбышевым и Андреем Бубновым, дедушки нет. Возможно, в этом проявилась его осторожность по отношению к своим родным? Он не хотел лишний раз «светиться» рядом с ними? То, что он умел стать незаметным, подтверждается и другими фактами.
Например, в стенограмме доклада В. Куйбышева Н.И. Подвойскому об организации обороны Самары от 19 июня 1918 года есть такой текст: «Из более заметной публики… неизвестна судьба редактора «Известий» Адельсон». Или тем фактом, что он не попал в поле зрения полиции в 1916 году, когда был арестован Филипп Рабинович, муж Софьи Адельсон, в семье которых он жил.
Вообще квартирка была та ещё! Филипп (на то время меньшевик), Софья (состояла в Бунде), дед — член сионистской социалистической рабочей партии, а в соседях у них: Франциск Венцек и его жена Серафима Дерябина, профессиональные революционеры, члены РСДРП. В воспоминаниях Куйбышева рассказывается об обыске осенью 1916 года. Дед тогда успел незаметно исчезнуть, а вот Филиппа и Бубнова арестовали.
Очевидно, фотография, которая есть у нас в архиве и в архиве семьи Куйбышевых, сделана в доме, где жили мои родственники. Тут надо отметить, что родственница Баси Василевской, одной из активных членов РСДРП того времени, рассказывала, что брат Марии Бешенковской был фотографом и, скорее всего, именно он сделал эти фотографии). Верхний ряд — слева направо Софья Рабинович, Валериан Куйбышев, Ева Адельсон. Нижний ряд: (Дерябина?), Филипп Рабинович, Прасковья (Пана) Стяжкина (гражданская жена В. Куйбышева).
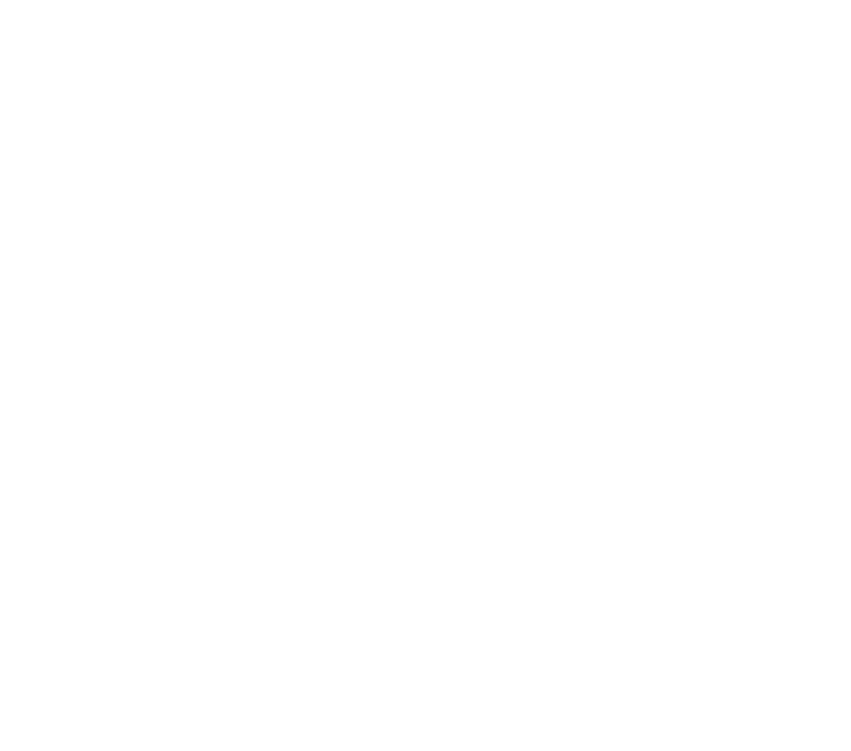
Есть ещё одна фотография, сделанная, вероятно, в тот же день, на которой присутствует Филипп Рабинович. Кстати, фотография, на которой Ева держит платочек, встречается в интернете с неправильной атрибуцией. Есть третий вариант этой фотографии, расскажу о нём чуть позже, когда буду писать о Еве.
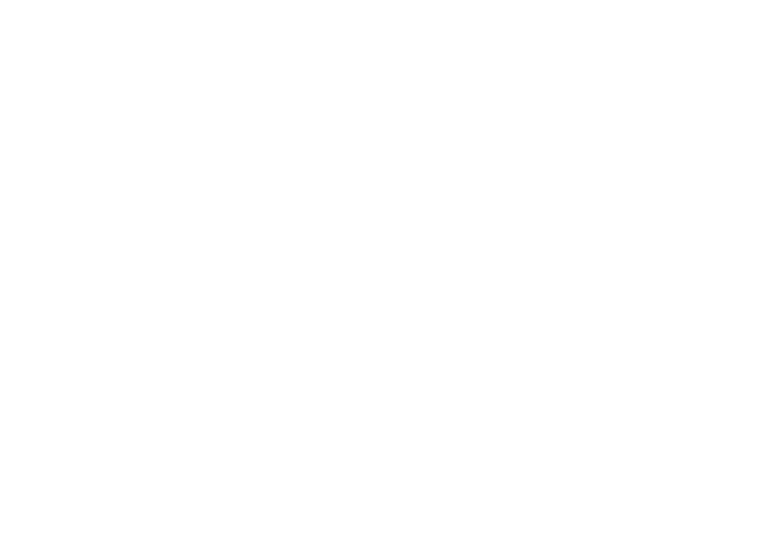
Обе фотографии сделаны в 1916 году, как гласит надпись на обороте одной из них. Относительно девушки в белой кофте есть достаточно много предположений. Моё предположение связано с воспоминаниями деда о Дерябиной.
«Мы переехали на новую квартиру. В этой же квартире снимала комнату Серафима Ивановна. Вечером в день переезда она к нам зашла. Нас собралось небольшое общество. Помню в числе гостей товарища Куйбышева и товарища Бубнова. Серафима Ивановна вошла какая-то светлая, улыбающаяся, среднего роста худощавая шатенка с прекрасными ласковыми глазами с мягкой улыбкой. Она как-то сразу становилась близкой и простой, от всей её фигуры веяло какой-то душевностью. Мы быстро перезнакомились и скоро были друзьями.
В ту же ночь нас разбудил пронзительный непрерывный звонок. Дело было 27 апреля, полиция ожидала, очевидно, первомайского сюрприза. Пошли усиленные обыски и аресты. Когда дверь нашей квартиры раскрылась, к нам ввалилась чуть ли не целая дюжина всякого ранга и чина полицейских, жандармов, шпиков. Был предъявлен ордер на обыск у Серафимы Ивановны Дерябиной и Франца Ивановича Венцека (муж С.И. находился тогда в отъезде в Туркестане). После обыска, продолжавшегося несколько часов, С.И. была увезена в тюрьму. Перед тем, как сесть на извозчика, она успела передать моей сестре [С.Г. Рабинович. — Прим. ред.] утаённые от зорких глаз царских шпиков важные документы. С.И. держали в тюрьме дней десять, но за отсутствием улик глава жандармского отделения Познанский вынужден был её выпустить, не добившись от неё обещания не участвовать в революционном движении. Быстро пролетело лето 1916 года. С.И. была неизменно весела, она часто пела, у неё был тогда прекрасный голос».
«Мы переехали на новую квартиру. В этой же квартире снимала комнату Серафима Ивановна. Вечером в день переезда она к нам зашла. Нас собралось небольшое общество. Помню в числе гостей товарища Куйбышева и товарища Бубнова. Серафима Ивановна вошла какая-то светлая, улыбающаяся, среднего роста худощавая шатенка с прекрасными ласковыми глазами с мягкой улыбкой. Она как-то сразу становилась близкой и простой, от всей её фигуры веяло какой-то душевностью. Мы быстро перезнакомились и скоро были друзьями.
В ту же ночь нас разбудил пронзительный непрерывный звонок. Дело было 27 апреля, полиция ожидала, очевидно, первомайского сюрприза. Пошли усиленные обыски и аресты. Когда дверь нашей квартиры раскрылась, к нам ввалилась чуть ли не целая дюжина всякого ранга и чина полицейских, жандармов, шпиков. Был предъявлен ордер на обыск у Серафимы Ивановны Дерябиной и Франца Ивановича Венцека (муж С.И. находился тогда в отъезде в Туркестане). После обыска, продолжавшегося несколько часов, С.И. была увезена в тюрьму. Перед тем, как сесть на извозчика, она успела передать моей сестре [С.Г. Рабинович. — Прим. ред.] утаённые от зорких глаз царских шпиков важные документы. С.И. держали в тюрьме дней десять, но за отсутствием улик глава жандармского отделения Познанский вынужден был её выпустить, не добившись от неё обещания не участвовать в революционном движении. Быстро пролетело лето 1916 года. С.И. была неизменно весела, она часто пела, у неё был тогда прекрасный голос».
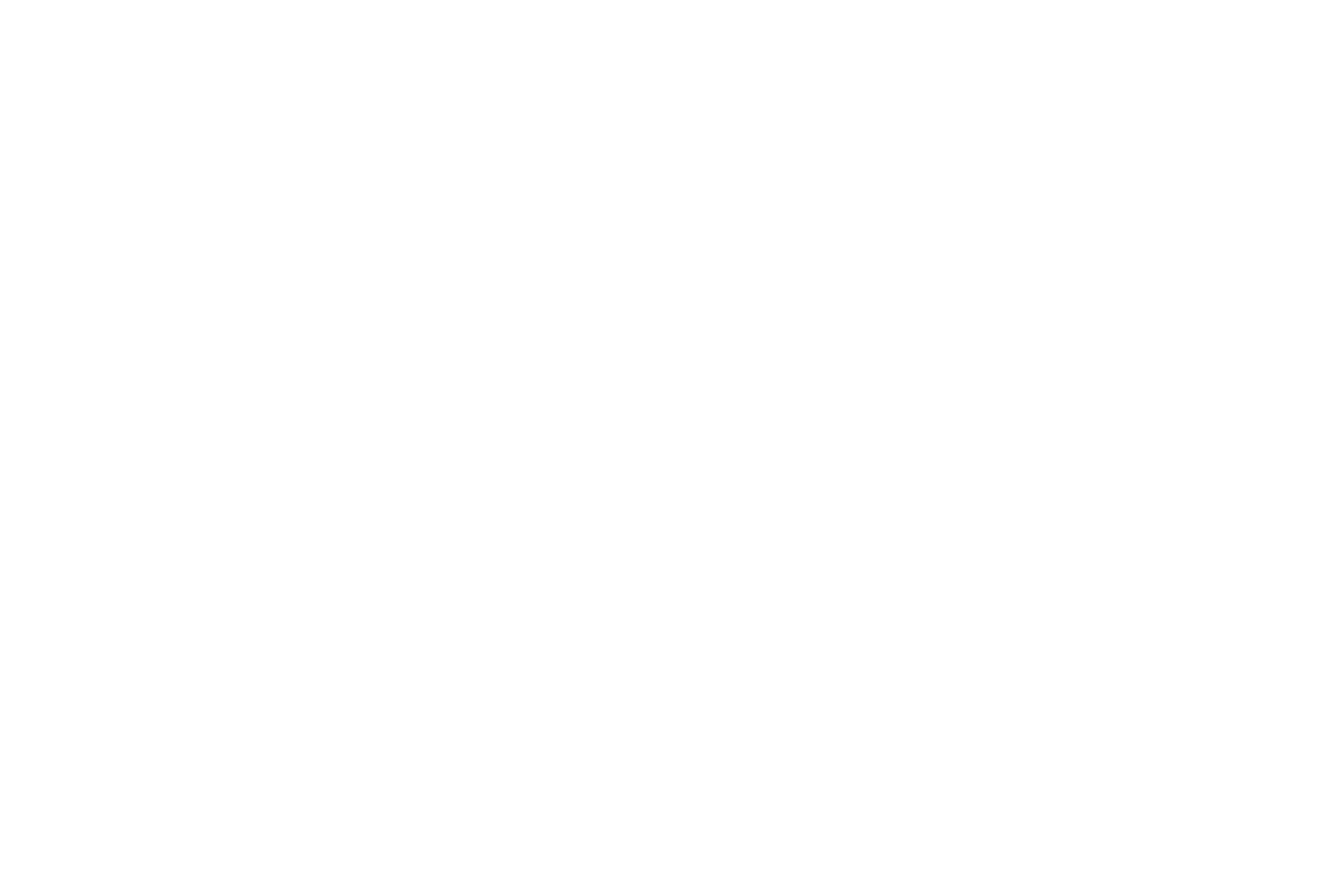
Сравнение фотографий: Серафима Дерябина в юности и девушка в белой кофте
Но вернемся к записям, которые я обнаружила в архиве деда. Вот что он пишет о появлении В.В. Куйбышева в Самаре и о своём знакомстве с ним:
«С Валериан Владимировичем Куйбышевым я познакомился почти за год до февральской революции. Я тогда работал на хлебозаводе Неклютиных в Самаре. В один из дней марта 1916 года в контору хлебозавода вошел высокий сутулый человек с крайне измождённым бледным лицом. Лет ему было под тридцать. Он прямо направился к главному бухгалтеру Исаю Осиповичу Перельману, восседавшему у стола на небольшом возвышении. Пришедший был только что бежавший из чуть ли не девятой ссылки, В.В. Куйбышев. Главбух и незнакомец о чём-то тихо беседовали, и через несколько минут наш шеф объявил, что у нас будет работать новый товарищ, которого он рекомендовал Адамчиком Иосифом Андреевичем, и просил его «любить и жаловать».
Нас в конторе было десять человек. Каждому новый сослуживец пожал руку и приветливо улыбнулся. Окончив процедуру знакомства, В.В. тут же сел за отведённый ему стол и углубился в дела. Работал он очень тщательно, лишь изредка поднимал голову, и тогда в его светло-серых выпуклых глазах искрилось какая-то затаённая мысль.
Стол В.В. стоял сзади конторки, за которой я вёл свои нехитрые расчёты. Временами мы перебрасывались отдельными фразами и вскоре сблизились. Как опытный конспиратор В.В. держал себя так, что никто бы не подумал, что перед ним испытанный большевистский руководитель с замечательным революционным прошлым. Он охотно общался со всеми служащими конторы, а рабочие, с которыми ему приходилось беседовать особенно часто, так как он ведал расчётным сектором, обращались к нему как к своему человеку со всякими обидами.
Вынужденный вести себя крайне осторожно, В.В. всё же не сдержался, чтобы не наговорить резкости старухе Неклютиной, когда та попыталась показать свой купеческий нрав и занизить зарплату рабочих. На обеденный перерыв мы стали с ним ходить вместе. По пути беседовали на всякие темы. Однажды он спросил, как я отношусь к тому, что помощнику главного бухгалтера повысили зарплату, а остальные работники конторы остались при своем нищенском заработке. Как я теперь понимаю, этой беседой В.В. прощупывал мои политические настроения.
Как-то В.В. сказал, что он любит шахматы, и я пригласил его к себе сыграть партию дома и познакомил его со своими родными. Жил я тогда вместе с сестрами и зятем — Ф. Рабиновичем на Никольской улице. После этого В.В. сделался нашим частым гостем. В июне или июле 1916-го в Самару прибыла Пана Афанасьевна Стяжкина, у неё был паспорт на имя Воробьёвой Людмилы Мамонтовны. Главбух хлебозавода Перельман немедленно устроил её на работу».
У меня сразу возник вопрос: интересно почему этот Перельман брал на работу всех ссыльных? Ответ оказался неожиданным: «В Самаре в марте 1916 года Куйбышев появился благодаря жене Филиппа Голощёкина Берте-Басе Иосифовне Перельман, с которой вместе пребывал в ссылке в Иркутской губернии. В 1909 году Берта-Бася Иосифовна, большевичка с 1903 года, была сослана в Нарым по делу Московского комитета РСДРП вместе со Свердловым, Голощёкиным и Иваном Обориным.
В 1911 году Голощёкин оставил Берту и бежал из Сибири. Ему удалось вновь встретиться со своей супругой только в 1917 году. Однако вскоре она наложила на себя руки. На это событие Голощёкин отреагировал следующим образом: он написал в газету «Уральский рабочий», что «она нашла в себе силы красиво уйти из этой жизни».
Пишу об этом потому, что моя бабушка Вера Николаевна Никольская работала под его руководством в проекте по ликвидации безграмотности в Самарской губернии. В своем письме в НКВД в защиту отца — священника Н.П.Никольского она ссылается на Голощёкина как на человека, который может дать ей рекомендацию. И, возможно, эта статья дала дополнительный толчок к её решению уйти из жизни.
В 1922–1925 годах Филипп Голощёкин возглавлял Самарский губисполком, руководил губернской комиссией по борьбе с последствиями голода, содействовал новой экономической политике, критиковал неправильную трактовку истории коммунистической партии, занимался ликвидацией безграмотности…
Осенью 1916 года, как я уже писала, Бубнов, В. Куйбышев, Ф. Рабинович, П. Стяжкина и ещё 13 человек были арестованы и отправлены в ссылку, где их застало известие о Февральской революции. Арест происходил, когда мой дед и семья Рабиновичей уже жили в доме, который на фотографии ниже.
«С Валериан Владимировичем Куйбышевым я познакомился почти за год до февральской революции. Я тогда работал на хлебозаводе Неклютиных в Самаре. В один из дней марта 1916 года в контору хлебозавода вошел высокий сутулый человек с крайне измождённым бледным лицом. Лет ему было под тридцать. Он прямо направился к главному бухгалтеру Исаю Осиповичу Перельману, восседавшему у стола на небольшом возвышении. Пришедший был только что бежавший из чуть ли не девятой ссылки, В.В. Куйбышев. Главбух и незнакомец о чём-то тихо беседовали, и через несколько минут наш шеф объявил, что у нас будет работать новый товарищ, которого он рекомендовал Адамчиком Иосифом Андреевичем, и просил его «любить и жаловать».
Нас в конторе было десять человек. Каждому новый сослуживец пожал руку и приветливо улыбнулся. Окончив процедуру знакомства, В.В. тут же сел за отведённый ему стол и углубился в дела. Работал он очень тщательно, лишь изредка поднимал голову, и тогда в его светло-серых выпуклых глазах искрилось какая-то затаённая мысль.
Стол В.В. стоял сзади конторки, за которой я вёл свои нехитрые расчёты. Временами мы перебрасывались отдельными фразами и вскоре сблизились. Как опытный конспиратор В.В. держал себя так, что никто бы не подумал, что перед ним испытанный большевистский руководитель с замечательным революционным прошлым. Он охотно общался со всеми служащими конторы, а рабочие, с которыми ему приходилось беседовать особенно часто, так как он ведал расчётным сектором, обращались к нему как к своему человеку со всякими обидами.
Вынужденный вести себя крайне осторожно, В.В. всё же не сдержался, чтобы не наговорить резкости старухе Неклютиной, когда та попыталась показать свой купеческий нрав и занизить зарплату рабочих. На обеденный перерыв мы стали с ним ходить вместе. По пути беседовали на всякие темы. Однажды он спросил, как я отношусь к тому, что помощнику главного бухгалтера повысили зарплату, а остальные работники конторы остались при своем нищенском заработке. Как я теперь понимаю, этой беседой В.В. прощупывал мои политические настроения.
Как-то В.В. сказал, что он любит шахматы, и я пригласил его к себе сыграть партию дома и познакомил его со своими родными. Жил я тогда вместе с сестрами и зятем — Ф. Рабиновичем на Никольской улице. После этого В.В. сделался нашим частым гостем. В июне или июле 1916-го в Самару прибыла Пана Афанасьевна Стяжкина, у неё был паспорт на имя Воробьёвой Людмилы Мамонтовны. Главбух хлебозавода Перельман немедленно устроил её на работу».
У меня сразу возник вопрос: интересно почему этот Перельман брал на работу всех ссыльных? Ответ оказался неожиданным: «В Самаре в марте 1916 года Куйбышев появился благодаря жене Филиппа Голощёкина Берте-Басе Иосифовне Перельман, с которой вместе пребывал в ссылке в Иркутской губернии. В 1909 году Берта-Бася Иосифовна, большевичка с 1903 года, была сослана в Нарым по делу Московского комитета РСДРП вместе со Свердловым, Голощёкиным и Иваном Обориным.
В 1911 году Голощёкин оставил Берту и бежал из Сибири. Ему удалось вновь встретиться со своей супругой только в 1917 году. Однако вскоре она наложила на себя руки. На это событие Голощёкин отреагировал следующим образом: он написал в газету «Уральский рабочий», что «она нашла в себе силы красиво уйти из этой жизни».
Пишу об этом потому, что моя бабушка Вера Николаевна Никольская работала под его руководством в проекте по ликвидации безграмотности в Самарской губернии. В своем письме в НКВД в защиту отца — священника Н.П.Никольского она ссылается на Голощёкина как на человека, который может дать ей рекомендацию. И, возможно, эта статья дала дополнительный толчок к её решению уйти из жизни.
В 1922–1925 годах Филипп Голощёкин возглавлял Самарский губисполком, руководил губернской комиссией по борьбе с последствиями голода, содействовал новой экономической политике, критиковал неправильную трактовку истории коммунистической партии, занимался ликвидацией безграмотности…
Осенью 1916 года, как я уже писала, Бубнов, В. Куйбышев, Ф. Рабинович, П. Стяжкина и ещё 13 человек были арестованы и отправлены в ссылку, где их застало известие о Февральской революции. Арест происходил, когда мой дед и семья Рабиновичей уже жили в доме, который на фотографии ниже.
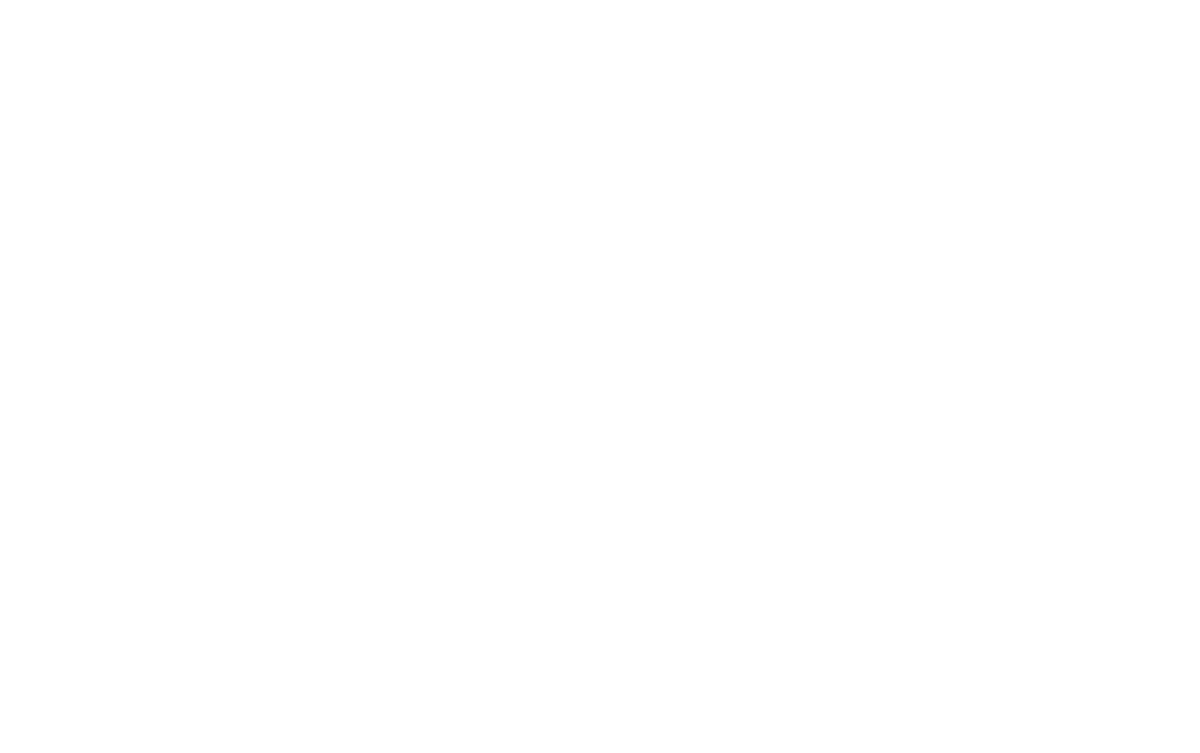
В 2023 году мне удалось побывать в этом доме, и его нынешняя хозяйка, которая живет там уже очень давно, рассказала, что отец её мужа при перестройке дома нашел в подвале тайную комнату с типографским станком.
Продолжим же рассказ о самарских событиях.
Пана Стяжкина в связи с беременностью не была отправлена в ссылку. Её оставили в самарской тюрьме. «Когда мы, группа рабочих-большевиков, пришли к начальнику тюрьмы, то он беспрекословно открыл заржавленные затворы, и все товарищи были освобождены. В тюрьме оставалась лишь товарищ Стяжкина, которая <...> родила сына Володю. К ней была тотчас же послана наша сестра милосердия Ева Адельсон; её стала навещать также врач Близнянская», — писала Мария Бешенковская. Случилось это 3 марта 1917 года.
О начале революции 1917 года местные революционеры узнали из частной телеграммы. В своих воспоминаниях Бешенковская пишет:
«1-го марта была получена частная телеграмма о свержении самодержавия и организации Временного Правительства. Первая об этом узнала Е. Адельсон. Сообщили всем товарищам, оставшимся на свободе.
Продолжим же рассказ о самарских событиях.
Пана Стяжкина в связи с беременностью не была отправлена в ссылку. Её оставили в самарской тюрьме. «Когда мы, группа рабочих-большевиков, пришли к начальнику тюрьмы, то он беспрекословно открыл заржавленные затворы, и все товарищи были освобождены. В тюрьме оставалась лишь товарищ Стяжкина, которая <...> родила сына Володю. К ней была тотчас же послана наша сестра милосердия Ева Адельсон; её стала навещать также врач Близнянская», — писала Мария Бешенковская. Случилось это 3 марта 1917 года.
О начале революции 1917 года местные революционеры узнали из частной телеграммы. В своих воспоминаниях Бешенковская пишет:
«1-го марта была получена частная телеграмма о свержении самодержавия и организации Временного Правительства. Первая об этом узнала Е. Адельсон. Сообщили всем товарищам, оставшимся на свободе.
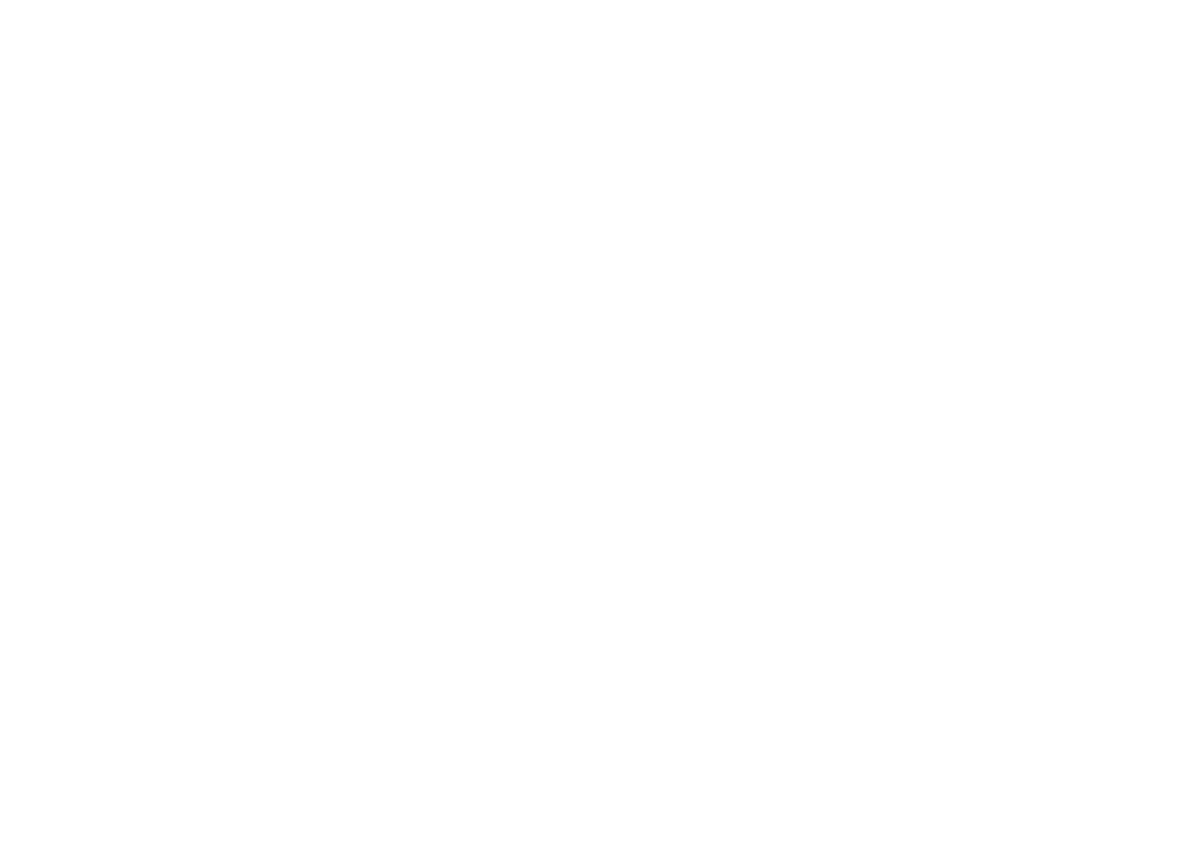
Было одно место — еврейская столовая (на фото дом, в котором она располагалась), куда собиралась наша публика, сообщили туда». Эта «еврейская столовая» официально именовалась «Обществом рабочей кооперативной столовой» и работала с ноября 1916 года на Саратовской, 106. После февраля 1917 здесь же размещалось бюро партии «Бунд».
Ещё одной организацией, в которой группировались деятели левых революционных партий, был самый крупный в городе кооператив «Самопомощь», созданный в октябре 1916 года. Его членами к февралю 1917 были около 16 тысяч человек.
В документах архивного фонда Самарского городского рабочего потребительского общества выявлено письмо Губернского исполнительного комитета в правление Самарского общества потребителей «Самопомощь» от 4 января 1918 года за подписью председателя исполкома В. Куйбышева. В письме предлагается «освободить временно Еву Григорьевну Адельсон от занятий в книжном складе, с сохранением за нею места без сохранения содержания, в распоряжение Комиссии по помощи раненым».
Тут, наверное, самое время немного подробнее рассказать о Еве Адельсон. В воспоминаниях самарских большевиков её имя часто упоминается. И становится понятно, что кем бы она ни была — сестрой милосердия или связной — она везде успевала первой. На фотографии она с моим папой. Примерно 1925-26 год.
Ещё одной организацией, в которой группировались деятели левых революционных партий, был самый крупный в городе кооператив «Самопомощь», созданный в октябре 1916 года. Его членами к февралю 1917 были около 16 тысяч человек.
В документах архивного фонда Самарского городского рабочего потребительского общества выявлено письмо Губернского исполнительного комитета в правление Самарского общества потребителей «Самопомощь» от 4 января 1918 года за подписью председателя исполкома В. Куйбышева. В письме предлагается «освободить временно Еву Григорьевну Адельсон от занятий в книжном складе, с сохранением за нею места без сохранения содержания, в распоряжение Комиссии по помощи раненым».
Тут, наверное, самое время немного подробнее рассказать о Еве Адельсон. В воспоминаниях самарских большевиков её имя часто упоминается. И становится понятно, что кем бы она ни была — сестрой милосердия или связной — она везде успевала первой. На фотографии она с моим папой. Примерно 1925-26 год.
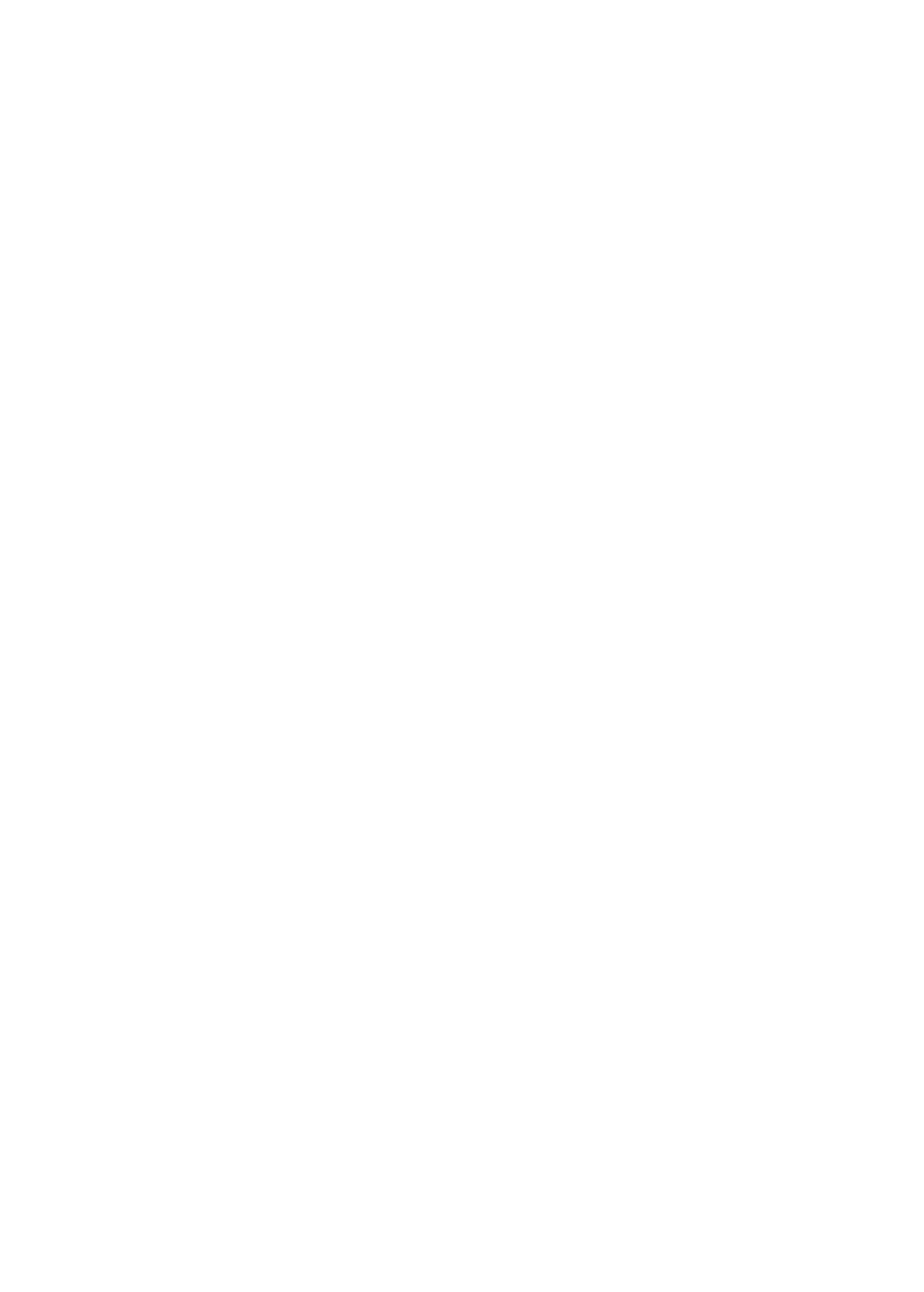
Ева Адельсон с с племянником Георгием (отцом автора статьи)
Младшая сестра моего деда была очень красивой женщиной. Помнится, моя мама говорила, что у неё было семь мужей. Не знаю, конечно, были ли они все официальными мужьями. Но в то время фото, подаренные на память, имели весьма символическое значение. Именно благодаря фотографии, подаренной ей на память Исидором Фрих-Харом, появилась на этом сайте статья о нём.
Существует и семейная легенда, согласно которой у Евы был роман с Куйбышевым. Легенда подтверждается письмом от Валериана Владимировича, которое он писал ей с этапа. Вот небольшой фрагмент из него: «…в голове отчетливо до осязаемости проходили одна за другой картины этого лета. Сначала вспоминались… (неразборчиво), брызжущие весельем картины. Вот первое наше знакомство. Вот вечером при луне садик вашей квартиры на Николаевской. Вот прогулки на лодке. Вот скамейка у вашего дома. Весёлые вечера у вас. Потом… (это многоточие поставил сам В.В.) Вот так я вспоминаю Вас. А Вы не забываете меня? Очень обрадовала меня ваша открытка. Хорошо было бы, если бы вы мне написали ответ на это письмо: уехал бы отсюда с Вашим приветом, и было бы веселее».
Существует и семейная легенда, согласно которой у Евы был роман с Куйбышевым. Легенда подтверждается письмом от Валериана Владимировича, которое он писал ей с этапа. Вот небольшой фрагмент из него: «…в голове отчетливо до осязаемости проходили одна за другой картины этого лета. Сначала вспоминались… (неразборчиво), брызжущие весельем картины. Вот первое наше знакомство. Вот вечером при луне садик вашей квартиры на Николаевской. Вот прогулки на лодке. Вот скамейка у вашего дома. Весёлые вечера у вас. Потом… (это многоточие поставил сам В.В.) Вот так я вспоминаю Вас. А Вы не забываете меня? Очень обрадовала меня ваша открытка. Хорошо было бы, если бы вы мне написали ответ на это письмо: уехал бы отсюда с Вашим приветом, и было бы веселее».
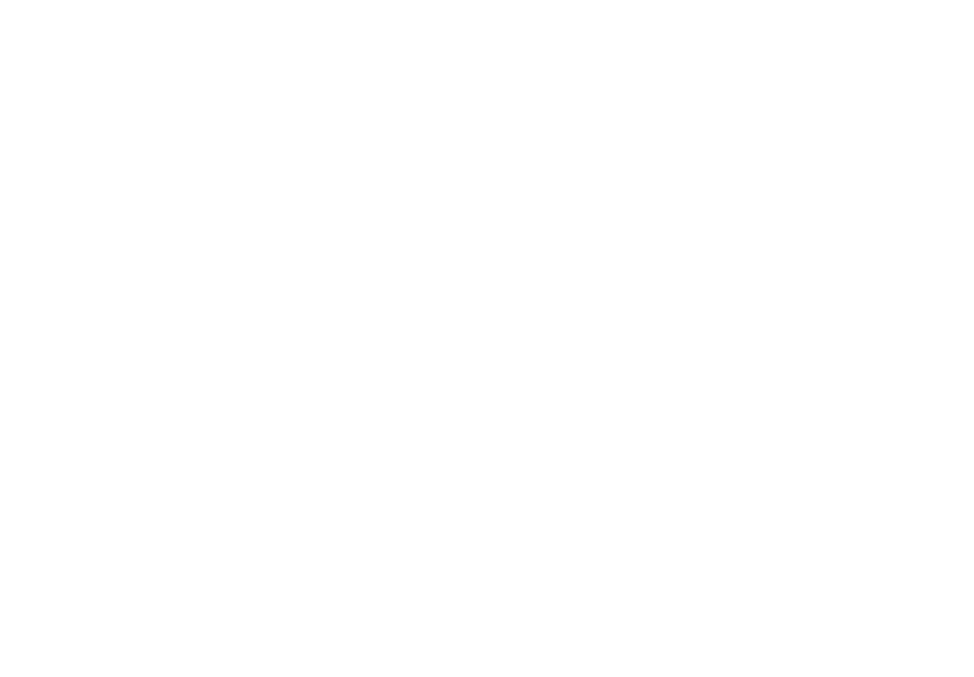
А вот и третий вариант фотографии, на которой Ева и Куйбышев держат платочек. Человек со шляпой в руке — Бубнов. Когда я её рассматривала, мне пришло в голову, что это какая-то игра. И действительно, можно предположить, что это игра в «платочек». Вот её описание: «Девушка берет платок и собирает вместе все углы. Потом предлагает парню взять любой угол, а сама другой рукой тоже берет один из углов. Каждый тянет к себе платок за взятый угол. Если платок при этом развернется треугольником, значит, парень должен поцеловать её. Если же платок развернется не углом, значит девушка продолжает игру с другим». На фото явственно виден развернутый «углом» платочек. В эту игру играли на Масленицу.
Есть в нашем архиве ещё несколько фотографий, подаренных Еве. На одной из них — Илья Павлович Трайнин, впоследствии — директор объединённой Московской кинофабрики Совкино, правовед и общественный деятель, доктор государственных и общественных (юридических) наук, академик АН СССР.
На другой — неизвестный мужчина, а на обороте — «Дорогой, родной, любимой Китаёзе…» и, поскольку, фото обрезано, из дальнейшего можно разобрать только «встреченной мной… Кисловодске…».
Есть в нашем архиве ещё несколько фотографий, подаренных Еве. На одной из них — Илья Павлович Трайнин, впоследствии — директор объединённой Московской кинофабрики Совкино, правовед и общественный деятель, доктор государственных и общественных (юридических) наук, академик АН СССР.
На другой — неизвестный мужчина, а на обороте — «Дорогой, родной, любимой Китаёзе…» и, поскольку, фото обрезано, из дальнейшего можно разобрать только «встреченной мной… Кисловодске…».
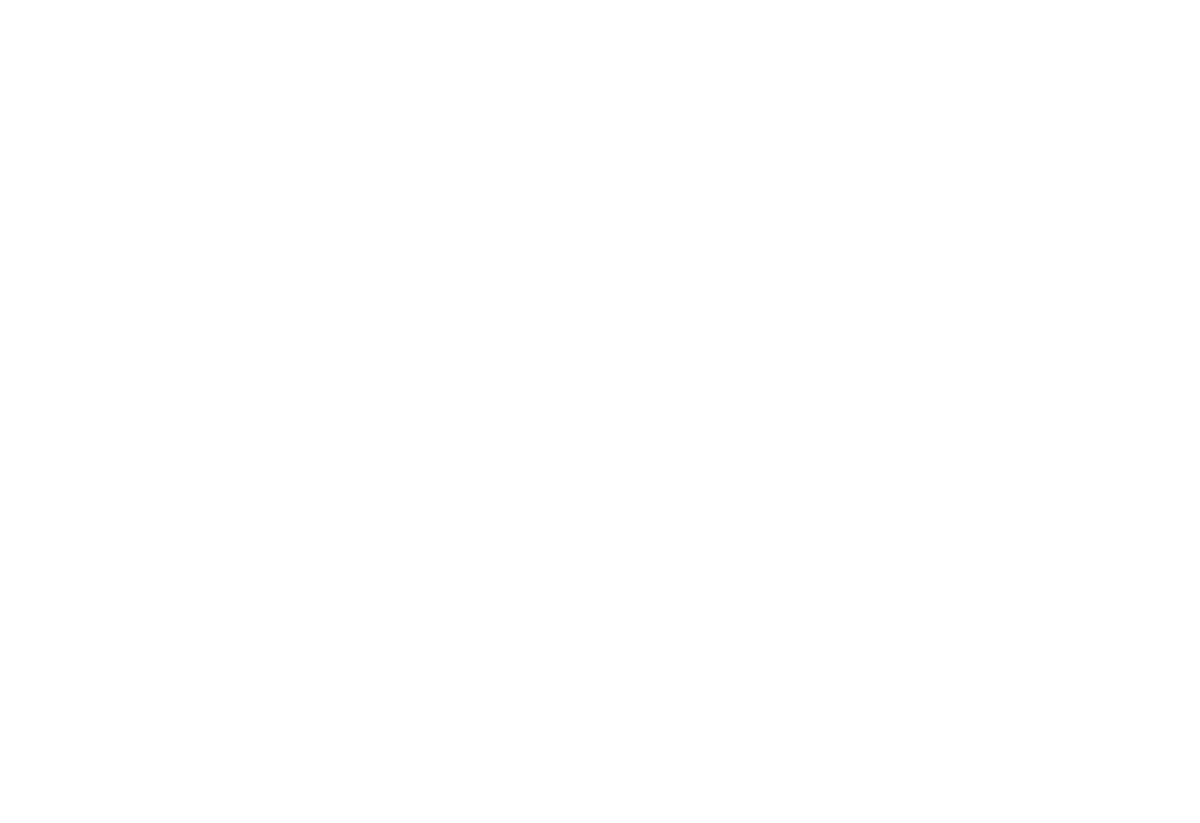
Илья Павлович Трайнин и неизвестный
Из подписи под запиской, написанной на обороте фотографии, где Ева вместе с группой мужчин изучает какие-то газеты, я поняла, что «Китаёза» — это именно она. В ней она сообщает некоему Серёженьке, что убежала на работу, вернётся в десять вечера, просит не ревновать и подписывается «твоя Китаёза».
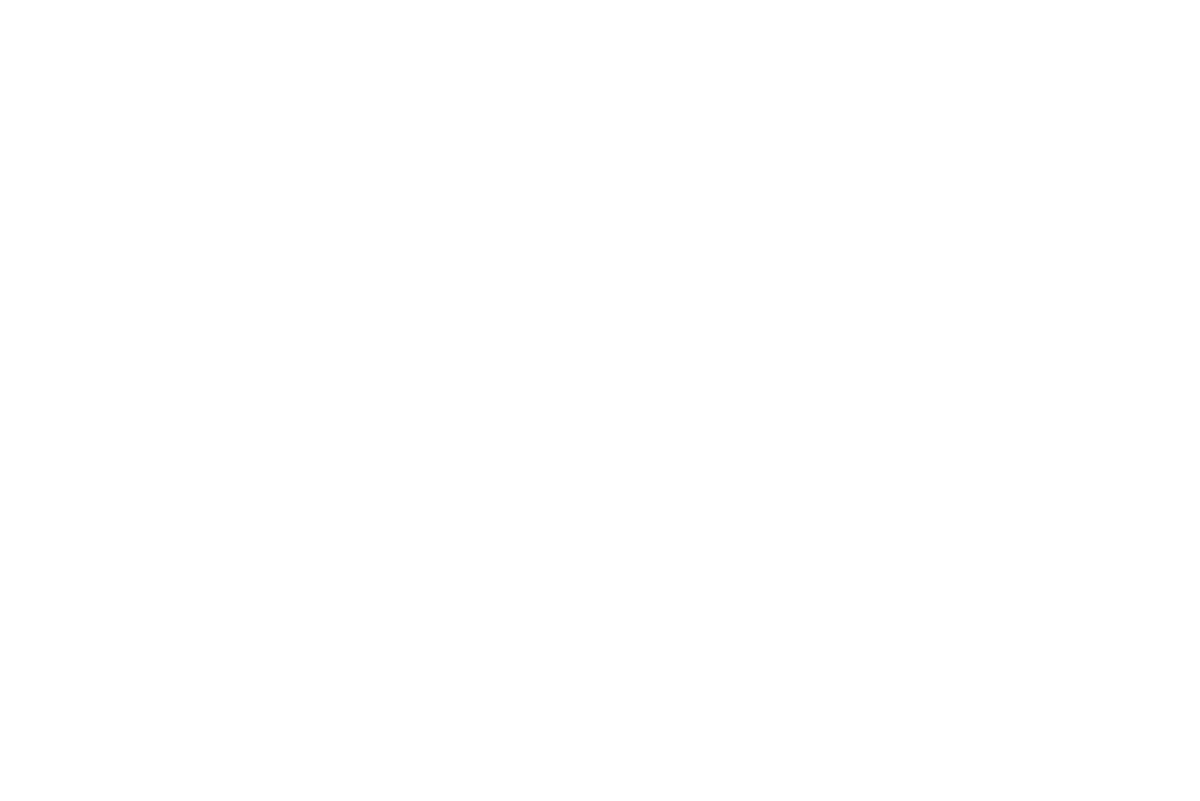
Есть ещё её весьма красноречивое фото с представительным мужчиной, сделанное в доме отдыха Наркомтяжпрома.
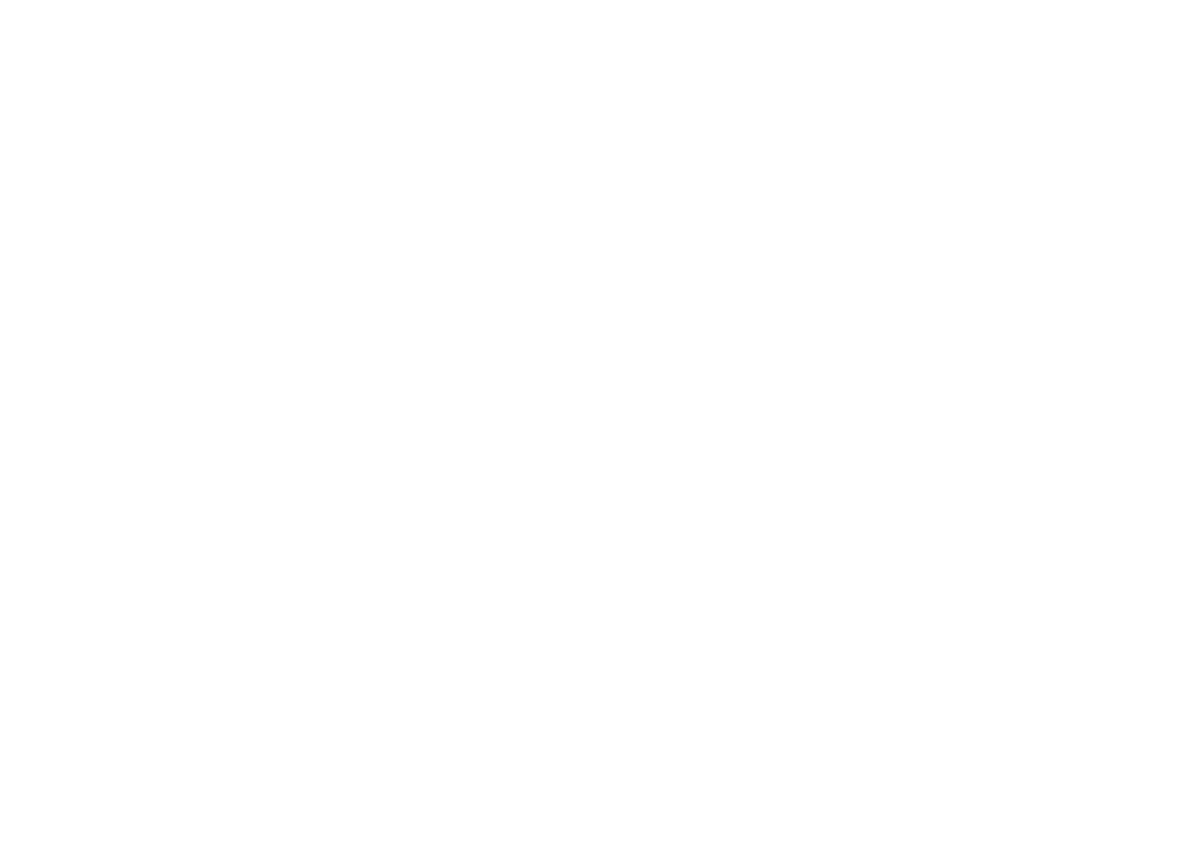
Я помню Еву уже совсем пожилой женщиной, но и тогда она была очень красивой. Точеные черты лица, стройная фигура и изысканная походка. Она до старости лет прекрасно шила. Помню очень необычное мамино концертное платье, сшитое ею. К сожалению, как и мой дед, она никогда не рассказывала о своём революционном прошлом.
ДРУГИЕ ПУБЛИКАЦИИ